Back to Meskhi.Net
Ия Месхи
Пишу тебе...
(Нико-Олико)
Документальная повесть.
Издательство «Мерани». Тбилиси. 1980
Письма — больше, чем воспоминания; на них запеклась кровь событий.
Это само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное.
А. Герцен
Я предлагаю вам это повествование потому, что прочла связку старых писем и стала узнавать о людях, которые переписывались друг с другом, о том, что их окружало, о тех, кто их окружал.
Думаю, то же самое могло бы случиться и с вами. Стоит только взять первые несколько писем и — потянет, потянет, всосет...
Я будто оправдываюсь. И это, в общем, так. Потому что всех нас еще с детства учат: «Не суйте свой нос в чужие письма!». Но здесь этот запрет может быть смягчен обстоятельством времени. Ведь дата какая — 1873 год!.. Давно нет людей, которые прикасались к этим листкам, макали перо в чернила, писали адрес на конвертах. Но они были. Это не выдуманные люди. В своих письмах они беззащитно обнажены. Хорошо ли это?
— Ничего, ничего! — отвечаю я сама себе. — Письма даже близких людей еще не самая плоть. Много в них всяческих дымовых завес из словес... И все-таки что-то просвечивает. Что-то истинное, откровенно человеческое. А ведь человеку хочется именно этого. Не любопытства ради, нет: для понимания людей. И, в конечном счете, для понимания себя.
А еще почему тянет к такому, можно сказать, бесцеремонному подслушиванию чужого диалога? Потому что в нем сиюминутное, импульсивное отношение к людям зафиксировано без последующих поправок на время, то есть «обжалованию не подлежит». Перед нами письма, но не воспоминания, в которых все можно осмыслить и сгладить. Здесь же ничего не сглажено. Здесь все полно пристрастных оценок да и вообще всего того, что присутствует в отношениях к людям, с которыми сталкиваешься носом к носу каждый день.
И зто так естественно! Сегодня мы тоже имеем, подчас, разные точки зрения на частности нашей общественной жизни. И сегодня какие-то люди могут нам быть просто-напросто несимпатичны. Разве мы не спорим, не порицаем какие-то поступки, не боремся с недостатками человеческими? И это несмотря на то, что мы единодушны в самом главном и самом важном: никто не живет за счет другого, не ест чужой хлеб, не давит на другого родовитостыо, высоким интеллектом, большим денежным мешком. Социальные преобразования выбили из-под ног почву для такого рода антагонизма.
А тогда именно социальная несправедливость и беспокоила мыслящих людей, заставляла некоторых из них изменять своему благополучному классу ради класса угнетенных. Прибавьте к сему борьбу за национальную независимость. Собственно ее не прибавлять надо. У народа малочисленного, угнетенного национально она шла вровень с борьбой за социальные свободы.
Два человека, которые обменивались письмами, обсуждали и эти, и много других вопросов. Причем один, старший и многоопытный, поучал, другая же (то была девица!) внимала с дружеским почтением, однако смела и свои суждения иметь. И вот это, последнее, выглядит особенно привлекательно.
Но имя одного из двух вошло в историю и теперь не произносится иначе, как с прилагательными «видный», «известный», «крупнейший». Значит, чаша весов, куда складывались его слабости, вовсе вычеркнута из памяти народной. А здесь, в письмах, эта чаша нет-нет да выступает из мрака забвения.
Но может быть так, со слабостями, человек становится ближе и достовернее? Что есть достовернее иконы? Живописный портрет. А что достовернее живописи? Фотография. Правда, фотография тоже нечто условное, отражающее мгновение. И все же она ближе к истине, если, конечно, фотограф имеет в виду не изображение для паспорта, а художественный портрет.
Вот я и приглашаю вас, читатель, к такой не очень удобочитаемой форме повествования, которая то и дело прерывается выдержками из различных документов, дополняющих пробелы или уточняющих события живыми свидетельствами тех лет. Мне кажется, что знакомство с документами и письмами даст нам прекрасную возможность вместе поразмышлять над человеческими отношениями и характерами, борьбой убеждений, над жизнью, ее парадной и закулисной стороной. А также познать интереснейшую в жизни нашего общества эпоху, кусочек которой пройдет перед нами.
 Но прежде всего представим себе нашу героиню. Вглядываясь в ее девичью фотографию, скажешь, что перед нами честное, открытое лицо бескомпромиссного человека. В нем отсутствуют кокетливость и жеманство, благополучие и сытость. Я улавливаю в нем выражение суровости, гордости и беспокойства. Человек с таким лицом может быть резок, категоричен, опрометчив. Его только нельзя назвать равнодушным, занятым самим собой. Словом, посмотришь на такое лицо, и тебе интересно, что за ним: какая работа ума, какие взгляды на свое место в жизни. Нет, это не простенькое, не безмятежное девичье личико!..
Но прежде всего представим себе нашу героиню. Вглядываясь в ее девичью фотографию, скажешь, что перед нами честное, открытое лицо бескомпромиссного человека. В нем отсутствуют кокетливость и жеманство, благополучие и сытость. Я улавливаю в нем выражение суровости, гордости и беспокойства. Человек с таким лицом может быть резок, категоричен, опрометчив. Его только нельзя назвать равнодушным, занятым самим собой. Словом, посмотришь на такое лицо, и тебе интересно, что за ним: какая работа ума, какие взгляды на свое место в жизни. Нет, это не простенькое, не безмятежное девичье личико!..
Георгий Церетели, писатель, а тогда ее старший товарищ, в одном из своих писем другу так говорил о ней: «Несколько раз я вглядывался в ее глаза, брови, в ее трепещущие ноздри — и знаешь, чей образ представал передо мной? Образ барса, впервые вышедшего на охоту, когда он пристально обводит взглядом каждый куст, желая запечатлеть все...»
А вот, что я прочла о ней в книге «Повести моей жизни» Николая Морозова, известного семидесятника-революционера: «Она была особенно эффектна своей поразительной южной красотой. Среднего роста, с полным бюстом, но тонкой талией, она сидела между подругами и восторженно следила большими черными глазами за пылкими речами....»
Ей было, вспоминает Морозов, не больше семнадцати лет.
Да, ей было тогда семнадцать.
Звали ее Ольга, Олико. Знаете грузинскую манеру обязательно переделывать имя на ласкательный лад? Оля — Олико, Екатерина — Катунья, Като, Мария — Машико. Пелагею Нацвлишвили называли и Пешо, и Нацуркой. Это ту, которая уехала учиться в Цюрих. Другая подруга, Богумила Земянская, называлась Ботей или Боцкой. Тоже уехала в Цюрих. И Олико неистово рвалась к ним. Неистово. А как же?! Вместе окончили Закавказский девичий институт. Олико получила «Золотой шифр» — диплом с отличием. Ее расхваливали, ею гордились. Но на этом — все. На этом возможности продолжить образование кончались. В Тбилиси вообще не было высших учебных заведений. В Петербурге же доступ в университет женщинам закрыт. Но вот за границей — да, там можно было учиться, если б пустили родители.
О КОЛОНИЯХ СТУДЕНТОВ В ЦЮРИХЕ
После того, как в 1868 году Суслова и Бокова кончили медицинский факультет в Цюрихском университете, другие русские женщины пошли по их следам. Но число студентов не превышало 15—20 вплоть до 1872 года, когда не из одной Казани, как я с сестрой, но из разных уголков России многие женщины поспешили в Цюрих. Таким образом, в весенний семестр этого года в Университете и Политехникуме оказалось 103—105 имматрикулированных студенток.
Вера Фигнер «Студенческие годы». 1929 год.
Отец Олико, князь Александр Гурамишвили, человек суровый и крутой, и слышать не хотел о том, чтоб дочь его уехала за границу. Вполне достаточно у нее образованности, — считал он, — чтобы составить хорошую партию. А больше знаний княжеской дочери ни к чему. И он окружил ее сонмом сиятельных женихов.
Олико с полным безразличием отнеслась к женихам, не пала духом, не повесила нос. Только бы не терять времени, а там можно придумать что-нибудь... А как не терять времени? Ну, хотя бы использовать тбилисские курсы саморазвития. Был у нее такой козырь в руках: в 1871 году царь Александр II, посетивший Грузию (а точнее — брата своего Михаила Романова, наместника Кавказа), всемилостивейше разрешил выпускницам Института, благородным девицам, учиться на этих курсах.
Сам царь! Перед столь удивительным, неумолимым фактом князь Гурамишвили спасовал. И Олико стала ходить на курсы.
Здесь ее поразили лекции приехавшего из Петербурга ученика Сеченова и блестящего толкователя Дарвина Ивана Рамазовича Тархнишвили. Только биология способна дать в руки человека ключ к пониманию жизни и принести практическую пользу людям, — думала Олико и готовила себя к служению этой науке.
А на курсах, между тем, собралось девичье общество: сестра журналиста — Олимпиада Николадзе, сестра химика — Кэкэ Меликишвили, дочь военного врача — Анна Домбровская, сестра педагога и редактора — Машико Церетели, сестры газетного издателя — Тасо и Варвара Туманишвили, сестра институтской классной наставницы — Варя Надеждина... Все они бесконечно обсуждали возможности поездки в Швейцарию. Увы, Олико не одна билась лбом об стенку. У отца Машико после всех этих разговоров разлилась желчь. Отец Тасо и Варвары в конце концов сорвал своих дочерей с курсов и запер их в имении под Гори. Отец Кэкэ, хоть и меценат и покровитель прессы, был непреклонен, как скала. Все, что угодно, только не эти женские эмансипации, стриженые нигилистки и прочий разврат!..
Но время-то было какое! Как ни перегораживай поток хлынувших информации и идей, какие препоны ни строй, все равно прорвет. Или так: если дерево живое — в свою пору оно зацветет. А дерево было живое. Грузия силой судеб пошла под крыло огромной необъятной России. И была благодарна ей, потому что чувствовала себя защищенной и впитывала от нее все лучшее. И была ранима, потому, что не хотела, не могла свернуться под крылом и дремать, отдавая свою культуру, свое «я» на медленное, но верное угасанье.
 Нравятся вам слова из библии: «От смоковницы возьмите подобие: когда ветви на ней становятся мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето»? Илья Чавчавадзе взял эти слова эпиграфом к основанному им журналу «Сакартвелос моамбе» («Вестник Грузии»). И он писал в своем журнале, что «жизнь меняется, идет вперед и несет обновление. Нравы, обычаи, мысли, чувства и выражающий их язык — все изменяется под ее могучим воздействием. Жизнь — мать всякого дела».
Нравятся вам слова из библии: «От смоковницы возьмите подобие: когда ветви на ней становятся мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето»? Илья Чавчавадзе взял эти слова эпиграфом к основанному им журналу «Сакартвелос моамбе» («Вестник Грузии»). И он писал в своем журнале, что «жизнь меняется, идет вперед и несет обновление. Нравы, обычаи, мысли, чувства и выражающий их язык — все изменяется под ее могучим воздействием. Жизнь — мать всякого дела».
Это писалось в шестидесятых годах, когда дело только начиналось, когда только вернулись на родину молодые грузины, получившие образование в российских университетах. Они называли себя «тергдалеулни», что значит «испившие вод Терека», реки, которая стремится с вершин Кавказа в равнины России. Эти люди познали идеи Чернышевского и Добролюбова и подняли у себя знамя борьбы за народность родной литературы, за национальное возрождение Грузии, за демократизм. И, наверно, потому в семидесятых годах Олико могла уже сидеть на курсах за одной партой с юношами, могла ходить в городскую «Читальню Иванова», это тайное сосредоточение запрещенных книг, а в газете «Дроеба» — прочесть полную скрытой иронии фразу фельетониста «Представьте, из библиотеки берут книги даже женщины!» (№ 11 за 1872 год).
Несколько лет, как в Тбилиси выходила газета «Дроеба» («Время»). Семнадцатилетняя Олико, конечно, читала в ней и такое: «Наша молодежь, при виде несправедливости и беззакония, обязана кричать. Некоторые молодые люди скажут: «Эх, что из этого выйдет!.. Лучше молчать...» Они ошибаются... Молчание, как говорит русская пословица, знак согласия... Словом, тот молодой человек, который видит в обществе плохое, вредное и не разоблачает это без страха и стеснения, достоин презрения!»
Разве не изумительные по своей чистоте и наивности слова?
Из этой же газеты Олико узнавала и такое, например, что более 400 петербургских женщин просили университет допустить их на лекции, но правительство отказало им в этом. Что в некоторых странах женщины получают высшее образование по таким специальностям, которые раньше считались только мужскими. Юноша и девушка, — читала Олико, — живут в одном обществе, и в скором будущем оно потребует от женщины, равно как и от мужчины, одинаковых усилий для удовлетворения общественных нужд и залечивания язв. Поэтому, настаивала газета, юноши и девушки должны обучаться совместно.
Казалось бы, прилежная институтка из патриархальной семьи не могла быть готова к восприятию подобного рода идей. Но в том-то и дело, что закрытый пансион института, в котором училась Олико, создавал условия для работы с молодежью, если, конечно, находились заинтересованные в этой работе люди. А они были. Была классная дама Мария Александровна Надеждина, по убеждениям своим народница. В комнате у нее девочки собирались по вечерам и обсуждали события 1870-71 годов во Франции. Блестели глаза, кипел разум, раздавались возгласы: «Ура Парижской Коммуне!», «Да здравствует Интернационал!». Был молодой Георгий Церетели, основатель «Дроеба», работавший в институте преподавателем грузинской литературы и языка. В распоряжение «Кружка Надеждиной» он предоставлял книги из своей, составленной в Петербурге, библиотеки «неблагонадежных мыслителей». Книги, газеты, журналы делали свое дело...
О ТБИЛИССКИХ УЧЕНИКАХ И УЧИТЕЛЯХ
Художественная литература будила мысль, оформляла характеры, и молодежь искала хорошего, доброго дела. Кто создавал библиотеку учебных пособий для неимущих, кто — фонд для поддержки совершенно незнакомых людей, довольствуясь лишь слухами о том, что они очень талантливы, но по бедности лишены возможности кончить курс. А иные, за ненахождением более подходящей цели, увлекались задачей нравственного спасения падших женщин и спускались в вертепы, чтобы извлекать оттуда несчастных, и помещали их в какую-нибудь белошвейную или иную мастерскую, теша себя надеждой, что они спасали их навсегда.
Наших учителей и нас интересовал прежде всего человек, человеческая душа, кто бы он ни был. Этими чувствами мы обязаны были не только христианским традициям семьи, но и учителям нашим, которые учили нас любить угнетенных. Отсюда и их гуманное отношение к нашему языку и национальным традициям.
Помню, как однажды, сидя за стаканом чая у И. В. Горяева, мы с увлечением говорили о русских беллетристах. Вслушиваясь в нашу беседу, Горяев неожиданно задает мне вопрос: «Вы, конечно, занимаетесь и вашей родной литературой?..» Мы должны были признать, что почти не посещаем классов грузинского языка, потому что на этих уроках нам учиться нечему. Наш учитель грузинского языка так плохо владеет хорошим литературным грузинским языком, говорит с нами таким испорченным наречием (имеретинским), что мы вынуждены поправлять его и невольно подсмеиваемся над ним.
— Что вы, что вы, господа! Как можно не заниматься своим родным языком!— воскликнул Горяев. — Это глубокая ошибка. Подумайте, — говорил он, — если после университета вы захотите вернуться к себе на родину, служить своему народу, вы должны знать свой язык в совершенстве. Во всяком случае лучше, чем его знает заурядный простой грузин. Иначе как и чему вы его научите без языка? Конечно, вы можете наверстать недостатки изучения языка и после, но знайте, что вы должны, непременно владеть им в совершенстве. Вы и теперь могли бы многое сделать для родной литературы, собирая во время каникул по деревням былины, легенды, сказки, и вам сказала бы спасибо ваша родина. ...Цель вашей жизни должна быть любовь к миру во всем его разнообразном величии, и только тогда вас все полюбят, всем вы будете близки и будете счастливы. — Так он закончил.
Да, любить весь мир! Какая заманчивая цель жизни для 17-летнего юноши...
Иван Джабадари «Процесс 50-ти». 1907 год.
Юным хотелось каких-то действий, подвигов, словом, чего-то, может быть, не совсем ясно, чего. Но, главным образом, хотелось знаний... Из всех страждущих девиц лишь одна Олимпиада Николадзе собиралась в Цюрих открыто, спокойно и легко. Впрочем, не одна, а со своими сестрами Като и Просико. Целый николадзевский выводок, вызывая страшную зависть Олико, готовился е дальний путь. И это неудивительно: с ними был их старший брат Нико!
 Нико!.. Навязший у всех в зубах, притча во языцех, как говорят. Умный, обаятельный, независимо держащийся, мятущийся по белу свету человек. Всегда на волне, всегда впереди, будоражит и зовет своим острым журналистским пером. У него уйма друзей и столько же недругов. Затевает чертову прорву дел. Вызывает восхищение и вместе с тем чем-то чуть-чуть раздражает и злит. Даже самых близких друзей. Быть может, оттого что характер беспокойный. Да к тому же все-таки не совсем свой, не дворянских, не благородных кровей?..
Нико!.. Навязший у всех в зубах, притча во языцех, как говорят. Умный, обаятельный, независимо держащийся, мятущийся по белу свету человек. Всегда на волне, всегда впереди, будоражит и зовет своим острым журналистским пером. У него уйма друзей и столько же недругов. Затевает чертову прорву дел. Вызывает восхищение и вместе с тем чем-то чуть-чуть раздражает и злит. Даже самых близких друзей. Быть может, оттого что характер беспокойный. Да к тому же все-таки не совсем свой, не дворянских, не благородных кровей?..
Его дед, Мамука, был крепостным крестьянином. Ему удалось бежать, устроиться в жизни и промышлять мелкими строительными работами. Сын Мамуки — Яков значительно подвинулся вперед и держал уже крупные подряды на казенные стройки, возводил солдатские казармы, здания военных училищ, пограничные посты. Готовил себе в помощники своего старшего сына Нико. И так как сам был человеком едва грамотным, отдал его в гимназию, точнее, сначала устроил пансионером в проживающую тут же, в Кутаиси, русскую семью. Так делали тогда многие. В Кутаисской гимназии преподавание шло только на русском, «следовательно, знание языка было необходимо. Кроме того, разъезжая по России со своими подрядными делами, Яков-отец на собственной шкуре испытал, что значит еле вязать по-русски слова. Словом, Нико было уготовано светлое будущее коммерсанта и дельца.
Однажды, в летние каникулы, мальчика повезли в Поти, дабы потихоньку приобщить его к отцовским делим Но тут он заболел. Знаменитая колхидская малярия свалила его с ног и выбила из гимназии на целый год. В перерывах между жестокими приступами от нечего делать он стал читать. Шли месяцы — он читал все подряд: душещипательные романы, исторические повести, беллетристику, газеты, журналы, стихи... Читал и думал. Читал и входил во вкус литературы, публицистики, мысленно представляя себя, свое будущее, не иначе, как с пером в руках.
Планы Якова Николадзе, надежды на сына потерпели крах. В марте 1861 года он провожал Нико в Петербург. Предприятие, равноценное нынешнему путешествию на Луну! Из Кутаиси на фаэтоне до судоходной части Риони, потом в простой лодчонке (так было дешевле) по извилистой реке к морским берегам. Из Поти пароход «Великий князь Константин» добросил по морю до Керчи.
Оттуда на перекладных, через Арабатскую косу и Геническ, на Харьков, Курск и Москву. Из Москвы — «чугунка» (железная дорога). Почти два месяца в пути, и — Петербург...
Ему было, тогда столько же лет, сколько Олико к моменту нашего повествования. Он был худ, безус, робок и полон книжных знаний о житье-бытье... А вернулся в родые края, узнав, испытав и успев так много, как, пожалуй, ни один из его соотечественников. Сидел в Петропавловской крепости за участие в студенческих беспорядках. Был исключен из университета. Прошел в Петербурге, в: газете «Народное богатство», всю черную кухню журналистики от набора типографского шрифта, корректуры до фактического редактирования газеты.
Был принят в доме Николая Гавриловича Чернышевского, боготворил его, остро пережил его гражданскую казнь и сохранил преданность ему на всю свою жизнь. В Женеве, вместе с бывшим адъютантом Гарибальди, Львом Мечниковым, и с эмигрантом Элпидиным предпринял самое первое издание сочинений своего ссыльного учителя. Успел выпустить лишь «Что делать?» и 1-й. том. И там же, с Мечниковым, издавал журнал «Современность». Сотрудничал в «Колоколе» Герцена и и Огарева, но разошелся с ними на принципиальной основе. В газете женевских радикалов, «La Nation Súissè» («Швейцарский народ») слыл видным публицистом и много печатался. В Цюрихском университете защитил диссертацию па тему «О разоружении и его экономических и социальных последствиях». Получил степень доктора прав...
 Во всем этом было много европейского блеска и относительной свободы писать и оттачивать свое перо. Но к концу шестидесятых годов он вернулся на родину, потому что она тянула его всегда. Здесь он стал сотрудничать в газете «Дроеба», хотя и не во всем был согласен с ее редактором Сергеем Месхи. Вместе со своим единомышленником Георгием Церетели издавал журнал «Кребули» («Сборник») [Здесь игра слов: «кребули» по-грузински в старину означало боевую дружину всадников. И Н. Николадзе именно потому и выбрал такое название для своего боевика.], собрал вокруг него группу передовой молодежи. «Читальня Иванова» — тоже его детище. Он снабжал библиотеку литературой, изыскивал средства, для финансирования. Он же своими руками переплетал книги запрещенных авторов, придавая обложкам и титульным листам вид изданий Диккенса, Шпильгагена, Шекспира...
Во всем этом было много европейского блеска и относительной свободы писать и оттачивать свое перо. Но к концу шестидесятых годов он вернулся на родину, потому что она тянула его всегда. Здесь он стал сотрудничать в газете «Дроеба», хотя и не во всем был согласен с ее редактором Сергеем Месхи. Вместе со своим единомышленником Георгием Церетели издавал журнал «Кребули» («Сборник») [Здесь игра слов: «кребули» по-грузински в старину означало боевую дружину всадников. И Н. Николадзе именно потому и выбрал такое название для своего боевика.], собрал вокруг него группу передовой молодежи. «Читальня Иванова» — тоже его детище. Он снабжал библиотеку литературой, изыскивал средства, для финансирования. Он же своими руками переплетал книги запрещенных авторов, придавая обложкам и титульным листам вид изданий Диккенса, Шпильгагена, Шекспира...
Летом 1871 года умер Яков Николадзе, отец Нико, оставив на плечах старшего сына свои коммерческие дела и довольно многочисленную семью: мать и семеро братьев и сестер. Недолго думая, Нико отправил в Цюрих своего среднего брата Ладико (Владимира) учиться на химика. Меньше чем через год пришлось срочно ехать к нему, смертельно больному легкими. Но не успел: Ладико скончался. Его похоронили в Цюрихе. Трудно юным, не окрепшим в чужой стране, с иным климатом и не всегда поспевающей помощью от родных. Но ведь он, Нико, прошел все это? Он, Нико, первый из грузин получил в Европе степень доктора прав, а значит, это могут и должны другие, если они думают о пользе для своего народа! И пусть воспринимают поездки на учебу за рубеж не как увеселительные прогулки, а как трудный и жестокий бой. А в бою не без потерь.
В Петербурге сплошные аресты среди студенчества, вызванные делом Нечаева и другими делами революционно-народнических групп. Там горячим грузинам, сующим всюду свои носы, не совладать с собой. Это Нико знает по себе. Поэтому — в Цюрих. Женщинам тем более нечего выбирать. Разве что более дорогой для жизни Париж или Берлин?
А главное, нужны деньги. Много денег. Нужны для учебы сестер, для помощи другим землякам в Цюрихе. Нужны, чтоб издавать свои газеты и журналы — главное идейное оружие в руках революционных демократов. И на ту же «Читальню Иванова» нужны.
Правда, пока есть капиталец, скопленный отцом, но предприятия его уже выглядят отстало. Нико же, как известно, не коммерсант и им не будет. Между тем на приобретенных отцом ткибульских земельных участках обнаружились залежи угля. Вот за это можно ухватиться: только бы заинтересовать каких-нибудь европейских толстосумов!
Значит, сестер с братишкой — в Цюрих, а самому — в Париж, испробовать старинные связи отца и свои знакомства в журналистских сферах. Полный короб радужных надежд!
— Располагайте мной,— говорит он своим друзьям.— Мои деньги — ваши деньги... Мы двинем дело, мы устроим нашу молодежь учиться и получим своих собственных специалистов: врачей, инженеров, агрономов, педагогов... Для «Дроеба» нужен станок? Я его куплю в Париже и привезу! Родители Олико не отпускают ее учиться? Беру это на себя, придумаю что-нибудь...
Скоро рождество. В Тбилиси выпал снежок. Как всегда, потаял на улицах, превратившись в грязную жижу, но на холмах и в Авчала [Авчала — пригород Тифлиса] — имении князя Гурамишвили — лежит плотным слоем. Горы словно выбелены к приему гостей. Светло. Все готовятся к веселью. Олико притихла. Стала совсем ручная. Неужели образумилась? Смиренно просит пустить ее на праздники в Кутаиси. Ну, что ж, за хорошее поведение можно и разрешить. Олико берет маленький сак со сменой белья. Снаряжается фаэтон. С богом!..
А в Кутаиси все уже на мази. Есть паспорта с заграничной визой на всех Николадзе. По паспорту пятнадцатилетней Просико на самом деле поедет Ольга Гурамишвили. Рискованно? Да, конечно, если обнаружится подлог. Но... риск благородное дело.
Из Кутаиси все едут в Поти. Здесь посадка на пароход, отплывающий в Батуми.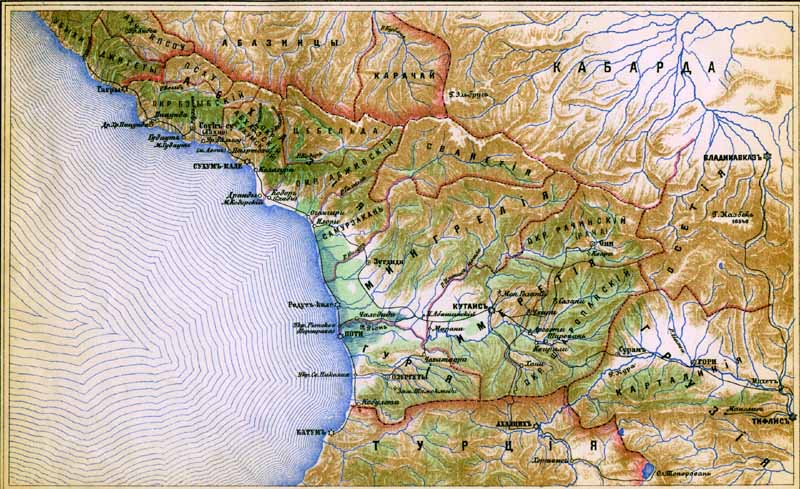 А портом Батуми все еще владеет Турция. Следовательно, Батуми это заграница, при посадке будет тщательная проверка виз. Но Нико настроен оптимистично: не отличишь Олико от Просико! Даже на тот случай, если произойдет заминка, недалеко от пристани роют копытами землю два скакуна, и с ними лихой наездник, верный друг Нико. Он должен промчать Олико тайной тропой через границу и успеть на пароход в Батуми. Все рассчитано по часам и минутам.
А портом Батуми все еще владеет Турция. Следовательно, Батуми это заграница, при посадке будет тщательная проверка виз. Но Нико настроен оптимистично: не отличишь Олико от Просико! Даже на тот случай, если произойдет заминка, недалеко от пристани роют копытами землю два скакуна, и с ними лихой наездник, верный друг Нико. Он должен промчать Олико тайной тропой через границу и успеть на пароход в Батуми. Все рассчитано по часам и минутам.
Семейство Николадзе (с ним Олико!) приближается к трапу. Прощание, объятия, поцелуи. По шатким сходням над водой подъем на палубу. Какой момент! Сердце Олико готово выскочить из груди. Она так поглощена своими переживаниями, что даже не видит, что сейчас происходит с Нико. Нико бледен как полотно. Любезная улыбка криво прилипла к его лицу. Еще бы! Случилось непредвиденное: на проверке виз у входа на палубу стоит кутаисский жандармский офицер, который хорошо знает всю николадзевскую семью — каждого в лицо! Разумеется, подлог будет раскрыт...
Что же делать?!. Остаются считанные секунды. Нико пропускает вперед сестер, а Олико прячет за спиной. Поток любезностей обрушивается на голову жандарма. Нико вручает ему пачкой все паспорта. Блюститель порядка уткнулся в бумаги, заканчивает изучение. Еще секунда. Еще!.. Сейчас надо показывать физиономию Олико. И в это время крики: «Человек за бортом!..» Кто-то свалился с трапа в воду, прямо перед носом у жандарма. Толкнули его, что ли.
Быстро прыгают в воду матросы. Жандарм, уже не глядя, возвращает Нико паспорта. Олико — скок на палубу, и вход временно перекрыт... Из воды вытаскивают перепуганного господина. Слава богу, живой!..
Вот так все неожиданно обошлось.
Неужели это правда, что так круто меняется ее жизнь? Она — названая сестра такого человека, как Нико! Даже перешла с ним на «ты»... Он показывает им Средиземное море, Афины, Неаполь, Рим. Они едут через Сен-Готардский перевал, видят строительство знаменитого винтового Готардского тоннеля. В Цюрих прибывают к концу февраля. И Нико, даже не устроив как следует девочек, поручив их Ивану Месхи, брату Сергея, редактора «Дроеба», спешит в Париж. И без того уйму времени ухлопал на них!..
— Олико! Ты будешь мне писать как можно чаще? На сестриц у меня никакой надежды нет.
— Хорошо, хорошо...
Вот и началось: Олико Нико, Нико Олико...
Год 1873-й
Олико — Нико
Март, 1873 г. Цюрих.
...После твоего отъезда мы бегали по улицам Цюриха, высунув языки от жары, и отыскивали квартиру. Но, ужас! Везде нас с презрением выгоняли: нет, мол, квартиры! А оказалось, что «для вас нет», потому что на другой день в «Утреннем часе» объявлялось об этой самой квартире. Вот мы бегали, бегали... (читай так, будто рассказываешь детям сказку на сон грядущий, но сам не засыпай) бегали, бегали, уставали как собаки, приходили домой и с отчаянием в сердце заваливались спать. Наконец, в один прекрасный день, мы шли и набрели на какую-то помешанную старуху, которая предложила нам воробьиное гнездо. Окна и двери этого гнезда сделаны в крыше. Представь себе, мы с восторгом наняли его за 25 франков плюс 2 франка за «материнские попечения», как выразилась наша помешанная. Из всего этого ты можешь заключить, что мы еще не начали заниматься как следует, хотя к нам уже ходит учитель немецкого языка и математики. Мы выписали учебники, какие были нужны, и до сих пор ждем их. Ужас как надоело шляние по улицам и ничегонеделание!
Да, кстати, никак не могу понять, что это за «Лионский вопрос» в «Ле Раппель». Пожалуйста, объясни в письме. Представь себе, некого спросить, а «Ле Раппель» только и трактует об этом.
До свидания, до свидания, до свидания. Надо бежать на собрание!..
Вот так почувствовали себя в первые дни в этом далеком чужом городе семнадцатилетние тбилисские и кутаисские девочки. Они не жались к стенкам, не ходили, потупив очи, ошеломленные Европой. Цюрих был маленьким тихим городком. Тифлис с его «адской смесью» азиатского и европейского выглядел куда оживленнее.
Было в Цюрихе и что-то знакомое: узкие улицы, черепичные крыши, тесно прижавшиеся друг к другу дома. И, самое главное, — горы! Гор вокруг хоть отбавляй! Университет и политехникум располагались в высокой части города. К ним шла улица, переходящая в лестницу с широкими ступенями. По этим ступеням взад-вперед шаркали тысячи быстрых ног. Шумное разноязычное племя студентов с каждым годом все больше заполняло городок, шокируя и раздражая добропорядочного цюрихского обывателя. Подумать только — понаехали из медвежьей России! С дикого Кавказа пожаловали! Да еще бегают по собраниям, добро бы только учились!
Но посудите сами, можно ли уткнуться в одни учебники и конспекты и ничего не ведать вокруг? Сколько событий продолжают потрясать Европу! Газеты толкуют о Третьей Республике Франции, о происшествиях в Национальном собрании. В объединенной Германии внимание прессы привлекает политика хитроумного Бисмарка, поддерживаемого национал-либералами. Сама Швейцария занимается пересмотром своей конституции и обсуждает ее на страницах прогрессивных изданий. Все это живо интересует молодежь, вырвавшуюся из душной, подцензурной атмосферы России. Разворачиваешь газету и — вот тебе еще трепещущая свежая информация! А рядом — искушенные в политике, нашедшие себе убежище в Цюрихе русские эмигранты...
В то время в Цюрихе было много политических эмигрантов из России. Наиболее значительной являлась группа последователей вождя анархизма Михаила Бакунина. Сам Бакунин жил в другом швейцарском городке и, кроме избранных, не общался ни с кем. В Цюрихе его как бы представляли Михаил Сажин (Арман Росс) и еще несколько приближенных — Ралли, Эльсниц, Гольдштейн, Светловский. Они были организаторами и хозяевами бакунинской типографии и яростно пропагандировали его бунтарские идеи.
Другие эмигранты группировались вокруг прибывшего в Цюрих в 1872 году Петра Лаврова. Широко известный в России литератор и публицист, автор «Исторических писем», Петр Лавров был противником бакунинского анархизма и идеологом весьма популярного тогда течения в народ. Вскоре он стал издавать в Цюрихе свой журнал «Вперед».
Таким образом, два крупных представителя русской политической мысли того времени находились в Швейцарии. Один, живя в Цюрихе, имел возможность завязывать личные знакомства и связи с молодежью, читал ей лекции, т. е. был вполне доступным и «земным». Другой же, оставаясь невидимым никем, создал вокруг своего имени ореол страстного разрушителя и сокрушителя всех устоев, что тоже импонировало молодым.
Прибывающие из России «зелененькие» студенты метались. Они не могли не заразиться атмосферой бесконечных политических споров в среде эмигрантов, споров, которые происходили часто в их присутствии. Кому верить? Кто прав? О чем они вообще толкуют? Что мы об этом знаем? Не лучше ли разобраться во всем самостоятельно, узнать, о чем говорят и говорили деятели социалистического движения всех стран и всех времен?.. Тем более, что к их услугам организованная эмигрантами бакунинского направления Русская Библиотека. Просто чудо какое-то: на чужбине богатейшее собрание книг, газет и журналов по всем общественным вопросам, истории и политэкономии, лучшие сочинения по западноевропейскому социализму, запрещенные в России издания. Пожалуйста, приходи на улицу Бреммершлюссель и погружайся во все перипетии борьбы идей!..
О КРУЖКАХ
...Как-то само собой получилось, что те, кто жил в одном доме или у одной хозяйки, кто сидел рядом на лекциях или за одним и тем же препаратом в анатомическом зале, или вместе штудировал анатомию или гистологию, соединялись в группы для целей, стоящих вне медицины или другой избранной специальности. Наиболее выдающимися среди мелких и незаметных групп были два кружка, впоследствии работавших в России в качестве революционных организаций. Один кружок составляли так называемые «сен-жебунисты». Все члены кружка участвовали потом в социально-революционном движении 70-х годов и судились по «процессу 193-х». Другим кружком, члены которого судились по «процессу 50-ти» в 1877 году, были «фричи», студентки, объединившиеся около Бардиной и получившие коллективно название от имени хозяйки-швейцарки, у которой некоторые из них жили. В этом кружке участвовали: моя сестра Лидия, Варвара Ивановна Александрова (впоследствии Натансон), две сестры Любатович, три сестры Субботины, Каминская, Топоркова, Аптекман, а позднее и я. Кружок задался целью изучения социального вопроса, начав политической экономией (по Миллю с примечаниями Чернышевского). Затем участницы распределили между собой творения социалистических теоретиков для реферирования в историческом порядке: одна взяла Томаса Моруса, другие — Кампанеллу, Роберта Оуэна Фурье, Кабэ, Сен-Симона, Прудона, Луи Блана, Лассаля. Затем таким же образом проштудировали историю народных движений и революций. А чтоб следить за современным революционным движением, распределили между собой социалистические газеты — немецкие, австрийские, швейцарские — с тем, чтобы на еженедельных кружковых собраниях делать доклады о всех важнейших событиях в рабочем мире.
Вера Фигнер «Студенческие годы». 1929 год.
О КОЛОНИЯХ УЧАЩИХСЯ
...В Цюрихе всех говорящих на славянских наречиях насчитывалось не менее 300 человек. Наиболее многочисленными были поляки, но среди них была лишь одна учащаяся женщина. Далее шли мы, русские, и среди нас большинство составляли женщины. Некоторое количество сербов и болгар обоего пола также слушали лекции в университете. И, наконец, была в Цюрихе довольно заметная группа мужчин и женщин с Кавказа.
Все эти национальности не были объединены в одну общую, хотя бы рыхлую организацию, но, сплоченные каждая в отдельности, жили своей особой внутренней жизнью. От сербов и болгар нас отделял язык, а поляки до последних дней царизма держались особняком от русских. Наиболее близкими нам были кавказцы, но и у них была своя группировка, свои общие и общественные интересы, о которых русское большинство ничего не знало.
Вера Фигнер «Студенческие годы». 1929 год.
Конечно же, у кавказцев были свои общие и общественные интересы, которые и объединили их в свою группу. И лишь волей случая, а попросту потому, что Нико Николадзе приобрел в Париже для «Дроеба» гектографический станок, а молодежь послала ему из Цюриха протоколы своих первых собраний, и он отпечатал их для пробы руки на станке — лишь только поэтому три протокола столетней давности дошли до наших дней. Какие-либо другие документы, связанные с существованием в Швейцарии в 1873-75 годах грузинского общества «Угели» («Ярмо»), просто не сохранились.
Но начало все-таки есть. И можно себе представить, как это было на улице Флюнтерн, в пансионе Фрейнфельд, где жила, наверное, большая часть грузинской группы. Поначалу собрались десять человек: пять юношей и пять девушек. Долго и сумбурно говорили. У них не было ни старшего, ни председателя, ни признанного вожака. Все являлись студентами, всем по 17—19 лет. Кое-кто провел в Цюрихе уже год или два, но разобщенно. А тут нагрянула свежая «николадзевская группа», народу прибавилось, настроение поднялось, кое-какие мысли зашевелились...
Конечно, знали о русских кружках и ощущали потребность в чем-то подобном. Побудил к действиям и Нико Николадзе своими рассказами о тбилисских делах, о газетных и журнальных новостях я о том, что в Цюрих-де собираются приехать еще такие-то и такие-то.
— Сплотитесь! — призывал он.— И не теряйте времени попусту. Вы и отсюда можете приносить нам пользу в наших домашних-общественных делах...
И вот они собрались в первый раз, чтобы наметить программу действий. Наверно, больше всех шумела хохотушка Катунья Николадзе. А Богумила Земянская, дочь сосланного из Варшавы в Тифлис чиновника, обладая красивой внешностью и недеятельным характером, была, как всегда, безучастна. Олимпиада Николадзе, девушка с интересным, но болезненным и капризным ликом, воспринимала все очень эмоционально и сердито. Всех деловитее вела себя, конечно, Нацурка — Пешо Нацвлишвили. Она приехала в Цюрих год назад, полностью погрузилась в медицину и сторонилась общественных дел, но, если нужно, готова была исполнить свой долг.
Какой была наша Олико? Думаю, что она вмешивалась в каждый спор со всем пристрастием своей пылкой натуры, что здесь было все — ум, деловитость, эмоции и просто ребячество, которое она не умела, не считала нужным подавлять, ибо была сама открытость и естественность. Я думаю так, вероятно, потому, что, начитавшись писем Олико, вижу, чувствую ее так, будто знаю давно.
Был в этой группе Давид Кадагидзе, сын богатого тушинского овцевода. Окончив гимназию в Тбилиси, он отправился в Цюрих без знания хотя бы какого-нибудь иностранного языка. Очень быстро овладел немецким, поступил в политехникум, на химический факультет, и стал выказывать такие успехи в науке, что сразу же обратил на себя внимание всей профессуры.
Еще один политехник — Александр Сумбатов, двоюродный брат известного в последующие годы русского актера и драматурга Александра Сумбаташвили-Южина. Был медик Владимир Инанишвили. Был журналист — тбилисский армянин Павел Измайлов, увлеченный идеей «Угели» и специально - приехавший из Парижа на первое собрание. Измайлов несколько взрослее остальных, успел немного поучиться в Петербурге, но во время репрессий по Нечаевскому делу не без оснований скрылся за границу. Наконец, присутствовал на этом собрании Иван Месхи молчаливый, скромный юноша 18-ти лет, готовящийся стать врачом. Ему и поручили товарищи изложить на бумаге кредо своего общества.
Написанный торжественно-витиеватым стилем, первый угельский протокол начинался словами: «Учащиеся в Цюрихе грузины собрались 9 марта 1873 года для того...»
Давно это было! Давным-давно... Больше ста лет тому назад.
Странно, наверное, читать нынешним студентам декларативную часть первого угельского протокола, вещающего о том, в какие весьма стесненные условия (как в смысле учебы, так и со стороны материальной) попали грузины за рубежом. Как правило, они теряли с родиной ту связующую нить, с помощью которой можно получать оттуда подмогу и постоянно находиться в курсе дел своего народа. И не было у них должной близости друг с другом. Не могли они добиться обстановки взаимного влияния, советов и помощи, что намного облегчало бы процесс учебы и дело расширения общего кругозора.
На этом фоне создание «Угели» было великим благом.
...Молодые люди думают, — сообщалось в протоколе,— что было бы желательно основать в своей среде такое общество, в котором каждый его участник овладевал бы какой-либо одной областью знаний и передавал эти знания другим. Это будет полезно, потому что так можно изучить не только собственный предмет, но и воспользоваться плодом труда товарища и таким образом получать обзор всей теперешней жизни и науки. А поскольку представленные на рассмотрение всех участников кружка труды будут совместно разбираться и корректироваться, есть смысл отправлять эти труды на родину для возможного опубликования в местной прессе. Тем самым эти труды станут приносить пользу и той учащейся молодежи, которая осталась на родине. Для вышесказанного требуется изыскать такие средства, которые бы сделали возможным весь этот объединенный труд. Например, организовать библиотеку, кассу. Но поскольку в Цюрихе нет недостатка в библиотеках, надо заняться сбором таких книг, которые представляют интерес только для этого кружка: грузинские книги или те издания, которые касаются Грузии и Кавказа.
Павел Измайлов объявил, что в Цюрихе сейчас создается общество армянской молодежи, а Инанишвили добавил, что надо с этим обществом установить близкую связь. Все присутствующие поддержали эту мысль. Предметом связи могут быть следующие дела: 1) создание общей библиотеки книг, касающихся Кавказа и Передней Азии, на европейских языках; 2) постоянная взаимная информация о положении литератур и истории обоих народов; 3) совместное составление сообщений о Передней Азии для европейской прессы; 4) взаимная информация об источниках, которые могут познакомить со Средней Азией.
Собрание молодежи все эти высказывания приняло и постановило собраться 18 марта для подробного обсуждения тех средств, которые позволят привести в исполнение идею создания общества. Когда была составлена Декларация, они решили и организационные вопросы. Распределили между собой темы для изучения истории и этнографии Кавказа, государственного права, политической экономии, прессы России, истории Франции и Германии, а также прессы этих государств. Решили, что хотя «Угели» и являются союзом учащихся грузин, членами его могут быть не только учащиеся и не только грузины, если они разделяют цели союза. При приеме в члены действует закон полного единогласия. Даже один голос, высказанный против, решает вопрос отрицательно. Остальные вопросы решаются большинством голосов. Кроме действительных членов, можно принимать в «Угели» и членов-вспомошествователей. И если действительные члены вносят ежемесячно в общую кассу по три франка, то всномоществователи должны вносить не менее десяти франков. Собираться в неделю раз, по воскресеньям, в 9 часов утра. Избрать ведущим дела общества Ивана Месхи, а кассиром Пешо Нацвлишвили. «Рабочим языком» на собраниях принять грузинский, а для тех, кто этот язык не знает, но хочет изучить, пользоваться пока русским.
Почему же придумали такое название — «Угели» («Ярмо»)? Это слово, имеющее смысл упряжки, единения, союза, то есть такого дела, которое можно вытянуть только сообща, часто мелькало в те годы на страницах грузинской демократической печати.
Таким было начало. Может быть, следовало организоваться попроще и поначалу взять на себя поменьше? Но об этом легко судить сегодня, а тогда, собравшись впервые вместе, они почувствовали, какая бездна вопросов встала перед ними. И как с ними справиться, если все они казались важными?
Олико вменили в обязанность следить за французскими газетами, главным образом за газетой радикального направления «Ле Раппель» («Призыв»), и докладывать, о чем в ней толкуют... Оттого-то она и обратилась к Нико с «Лионским вопросом».
А Нико, прибыв в Париж, конечно же, с головой окунулся в политическую жизнь парижан, стал ходить в Версаль на заседания Национального Собрания. Именно лионскому вопросу было посвящено одно из таких заседаний, куда он отправился вместе со своими соотечественниками Давидом Микеладзе и Павлом Измайловым.
В пространном письме, на составление которого наверняка ушел целый вечер, Нико разъяснял Олико отношения между партиями монархистов и республиканцев, начиная чуть ли не с революции 1848 года. Сам он, конечно, был сторонником республиканцев, поносил монархистов и говорил, что, покончив с Парижской Коммуной, они теперь хотят приняться за другие города, где еще сохранились республиканские свободы. Таков, например, крупный промышленный центр Франции — Лион. Монархисты хотели протащить на собрании проект, по существу уничтожающий все демократические завоевания лионцев.
Нико — Олико
Март, 1873 г, Париж.
Заседание было бурное, свирепое, каких мало помнит парламентская история. Каждое слово могло вызвать бурю, которая буквально носилась в воздухе. Наконец она вспыхнула: один из членов республиканской партии, говоря о докладе монархической комиссии, выразился, что большая часть этого доклада — «хлам». Шум, крики, восклицания монархистов. Один из этих, последних, кричит оратору: «Это дерзость!». Оратор требует, чтоб за это непарламентское слово призвали к порядку. Монархисты беснуются, кричат, протестуют. И тогда президент говорит, что подает в отставку.
Вся Франция уважает этого президента Греви. Он бездарен, слаб, ничего не делает и ничего не может сделать. Всю свою жизнь он рассуждал о принципах и стараясь рассматривать их значение, подчинялся каждому правительству, которое нарушало вообще всякие принципы. Проповедуя легальность, подчинение закону, мирную пропаганду в пределах законности, Греви забывал спросить: «Да полно, деиствительно ли всегда легален и законен самый закон и должен ли народ подчиняться закону, изданному человеком, нарушающим всяческие законы и всяческие интересы нации?». Тем не менее Греви пользуется громадной известностью и уважением за непреклонность принципов, и вся Франция уважает в нем «честного, непреклонного и неподкупного человека, не добивавшегося почестей и власти». Так часто мы любим хорошо переплетенную книгу, держим ее на столе, показываем ее всем и каждому, хотя никто никогда не читает ее и никому она никакой пользы не приносит. И вдруг этот человек заявляет, что он не может ужиться с Национальным Собранием! Это такой удар по Национальному Собранию, от которого оно не оправится. Оскорбить такого старца, возмутить эту «мраморную статую» — это значит в глазах Франции быть уже совершенно неисправимым собранием. Это последний, добивающий удар, нанесенный собранию, и вся республиканская партия воспользовалась этим случаем, как воспользуется, надеюсь, и печать, чтобы окончательно уронить Собрание в глазах французской нации.
Выходя из Собрания, возмущенный и обрадованный этими гнусностями монархистов, когда мы поравнялись с толпой депутатов, я громко сказал моему республиканцу: «И эти-то господа выставляют беснующимися членов Лионского муниципального совета!». Представь себе мое удивление, когда я прочел эти слова в передовой гамбетовской газете «Репюблик Франсез», которую принесли мне, когда я писал тебе это письмо, и, вслед за этими словами, следующие: «Такими словами один честный очевидец, выходя из зала Версальского собрания, выразил свое мнение о позиции депутатов правой. Вся страна его повторит, как могут повторять все свидетели невероятной сцены, которой закончилось сегодняшнее заседание».
Вот вам и Лионское дело с последними конвульсиями издыхающей Ассамблеи. Что будет дальше — увидим сегодня или завтра.
В самой гуще парижских событий был наш Нико со своими товарищами. Что перед этими событиями цюрихские переживания, связанные с крохотным «Угели»?! На этот счет можно было и поиронизировать, называя «Угели» многообещающим ребенком, которому, кажется, суждено умереть во чреве матерей своих. Но в то же время и понукать Павла Измайлова, дабы он поскорее отправил угельцам обещанную им статью. И того же требовать от Микеладзе. А самому, несмотря на уйму парижских соблазнов, засесть за обширную публицистическую статью для тбилисского журнала «Кребули», статью, в которой и толкуется о великой пользе и значении нового, созданного в Цюрихе грузинского общества.
Тем временем «Угели» начало потихоньку расширяться. В том же марте месяце в Цюрих приехал молодой ученый-химик Петр Меликишвили. Одесский университет послал его в двухгодичную командировку в Тюбинген, и, воспользовавшись этим, он привез на учебу в Цюрих свою сестру Кеке. Их обоих приняли в члены общества «Угели».
Встал вопрос и о приеме в общество Эстатэ Бродзели. Кто такой был Эстатэ? Молодой тбилисский художник-самоучка, очень талантливый, но больной и бедный. Мечтал он о поездке в Италию, и кто-то из тбилисских меценатов, не очень-то разбирающийся в том, что нужно, отправил юношу в Цюрих. Бедняга болтался в этом городе как неприкаянный. Казалось бы, «Угели» могло вмешаться в его судьбу. Но тут сработал закон полного единогласия при приеме в члены общества. Не утруждая себя объяснениями, Инанишвили проголосовал против Бродзели, и тот остался за бортом. Может быть, и от огорчения, здоровье Бродзели резко ухудшилось. Он стал катастрофически чахнуть от туберкулеза легких, болезни, которая в конце концов свела его в могилу.
Но как эмоционально воспринят был инцидент с Бродзели нашей Олико! Какое «взрывное» письмо отправила она по этому поводу Нико, осуждая своих товарищей, разбирая их поведение. К сожалению, Нико тоже остался как-то холоден к данному конкретному факту. Его внимание в письме Олико привлекло другое.
Нико — Олико
Мне очень понравилось, что ты написала мне свои огорчения по поводу выходки с Бродзели. Насколько ты основательна в этом случае, это другой вопрос. Я в этом не судья... Мне нравится, что ты решаешься высказывать свои мысли и ощущения о том, что делается вокруг тебя. Продолжай, пожалуйста, рисовать мне время от времени портреты и характеристики своих знакомых, рассуждай со мной вслух об их поступках и мнениях: это научит тебя умению судить о людях. Будь уверена, что, как бы пристрастны и неосновательны не были твои суждения, в конце концов ты приучишься к верному взгляду.
— Хорошо, — подумала Олико, — она будет с Нико откровенной, будет поверять ему все. Но как все-таки расценить его отношения с Богумилой Земянской?
Приехав в Цюрих и бросившись в Ботины объятия (ведь сколько лет жили в одном пансионе!), Олико была удивлена братскому «ты» между Ботей и Нико. Оказывается, и тут состоялся брудершафт. Ботя назвала себя сестрой Нико. Это произошло тогда, когда Нико ездил в Цюрих, торопясь застать в живых своего младшего брата. Малочисленная грузинская колония была уже в трауре. И тут он увиделся с Ботей, которая принимала самое горячее участие в этих печальных днях. Всем известно, Ботя — добрая душа. Однако две «подложные» сестры — не слишком ли много на одного?..
В короткие дни совместного общения заметила Олико: Нико в присутствии Боти был немножечко другим — держался как-то легковесно, петушился. Может быть, потому, что и Ботя в его присутствии напускала на себя больше томности, чем обычно?
Как бы то ни было, Олико это в общем-то все равно. Ценой такой, можно сказать, авантюры она приехала в Цюрих!.. От своего разгневанного отца не ждет ни милости, ни материальной поддержки. Тем более, что в ее княжеском доме всегда больше гонора, чем денег, всегда строят хорошую мину, когда ветер из всех щелей свистит... И ей надо подтягивать пояс потуже, заниматься делом, верить во всем Нико. Он ее истинный и бескорыстный друг. И если он хочет (а он попросил ее об этом!), чтобы она жила в одной комнате с Ботей, она сделает и это. В конце концов ее с Ботей объединяет названное братство. И Ботя здесь одинока так же, как и Олико.
Олико — Нико
Апрель, 1873 г. Цюрих.
Еще когда я была в Тифлисе, я отлично знала, что в Цюрихе мне некому будет, как ты выразился, «разжевывать», что здесь мне придется самой жевать и глотать. И это вовсе не пугало меня. Приехала сюда — действительно, так оно и вышло. Но я все-таки не струсила. Ты думаешь, что я вытаращила глаза и спрашиваю, озираясь: «Боже мой! Кто же будет разжевывать? А если никто, то как глотать неразжеванное?» Вовсе нет. Я только ищу, соображаю, раздумываю, что жевать и глотать. А когда найдешь, тут уж, я думаю, не так трудно. Мне, по крайней мере, кажется, что самая трудная часть — это отыскать материал для разжевывания.
Перепробовавши и пересмотревши штук сто негодных, перегнивших вещей, должно быть, доберусь и до свежей. Но еще нужно быть настороже, чтоб какая-нибудь блестящая, а, в сущности, негодная штука не показалась свежей и не заставила ухватиться за нее и сказать: «Вот что я искала и наконец-то нашла!». Может быть, разжевавши, и почувствуешь, что гниль, и выплюнешь? Отлично! А если нет? Тут скверно. Но, впрочем, если не почувствуешь гнили, значит, нечего было и хлопотать, значит, такой уж вкус...
Но сколько, я думаю, нужно осторожности, раздумий, чтоб пройти весь этот лабиринт и, не заблудившись, в конце концов выйти на свет. А тут как раз не до осмотрительности: за все хочется взяться, всем бы, кажется, увлеклась! А во время этого увлечения ужасно неприятно вспомнить, что ведь не это следовало бы делать, а вот что! Бросишь это — берешься за другое... Все время какие-то мысли бродят в голове, да всего не передать. А хочется все тебе передать! Но, право, я не умею. Нужно изложить логично, а у меня все разбрасывается в разные стороны. Кажется, целый бы день писала письма, а тут, как на грех, урок, нужно идти заниматься. Ну, до свиданья.
Нико — Олико
Апрель, 1873 г. Париж.
О главных твоих огорчениях, о том, что тебя многое соблазняет, что тебе хотелось бы за многим угнаться, я могу сказать, что это-то именно и свидетельствует о твоей способности добиться чего-либо. Нет ничего гаже тех натур, которых ничто не увлекает, не тревожит, не мучит, которые, задав себе цель или заняв цель у других, идут к ней мерными шагами, машинально, неохотно, но и не сонно. Гораздо ценнее натуры, мучимые внутренним недовольством собой и тревожно искушаемые мимоидущей жизнью. Это доказывает, что у них есть аппетиты, есть способности, требующие удовлетворения. Но тут-то и является опасность. Обыкновенно такие натуры, искушаясь поминутно и ни на чем не останавливаясь, разбрасываются, распускаются вширь и кончают тем, что становятся легкомысленными, бессодержательными...
Но тебе, я полагаю, нечего бояться этого. Когда у такой натуры есть предвзятая цель жизни, когда у нее уже возникла сильная привязанность к определенному делу, тут уже не опасно искушаться и обнюхивать все, что попадется хорошее под руку. Натура, мне кажется, не позволит забыть главную работу, а все изведанное помимо нее будет служить к вящему укреплению главной идеи, если способность перерабатывать восприятие впечатления будет идти рука об руку с желанием изведать их вкус. Мне сдается, что тебе тут не угрожает никакая особая опасность.
Если ты твердо держишься той программы, о которой ты мне говорила, если ты готовишься к той работе, о которой я уже имею некоторое понятие, то дело очень и очень несложное. Считай главной, существенной частью своей теперешней задачи получить общее научное образование. Затем читай все, что хочешь, пока не поймешь, что читаемое глупо и ничего не дает. Остальное найдет себе место в твоих мозгах и переработается довольно складно. Науке приносят пользу не те, которые обводят своими занятиями волшебный круг специальности, но те, которые, познакомившись с общим состоянием наук, узнав их философскую сторону, заметят пробелы в некоторых выводах и затем уже начинают работать в сфере более или менее узкой специальности.
Олико — Нико
Апрель, 1873 г. Цюрих.
...Не знаю, отчего явилась у меня страсть следить за ходом своих мыслей? Иногда, после раздумий, я начинаю излагать себе все, что в это время передумала. И вот приходит в голову проследить, каким образом за новой мыслью явилась другая, третья и т. д. Ну и доискиваешься, что каждая мысль вяжется с первой, что предыдущая должна была вызвать последующую. Но каким образом явилась в голову первая мысль — этого я не умею доискаться. Как ни роюсь в голове, все кажется, что она у меня давно сидела там, что она не новая, а я ее только теперь сформулировала. И когда читаешь, какую бы новую вещь ни узнала, все кажется, что я ее знала давно и. что только не задумывалась над ней. Отчего это не все мысли родятся с нами вместе? Я думаю, скорее, ни одна...
А в другой раз после раздумываний является страшная досада на себя, ругаешь себя то за это, то за другое, что в данном случае следовало поступить так, а поступила иначе, не сумела пересилить себя, овладеть собой и т. д. Какое это неприятное чувство, когда самой себе кажешься ничтожной, слабой, ни на что не годной! Это гораздо хуже, чем знать, что о тебе так думают другие...
Юность пристально заглядывает внутрь своего «я». Все хочется понять, из чего состоишь и на что можно рассчитывать в дальнейшем. Поэтому именно в юности пишутся дневники или пространные письма, заводятся закадычные подруги и друзья. Страшная потребность излиться перед собой или перед человеком, который умеет слушать...
Но это не стандарт. У каждого своя степень самоанализа. Один дотошно, самозабвенно копается в себе, другой же большую часть внимания уделяет внешней стороне событий. Они его занимают больше, чем собственная особа. Могут ли тут существовать какие-нибудь мерки? Да и нужны ли они? Наверно, все зависит от тонкости психологического склада личности, от богатства натуры, ог того, что происходит вокруг и в какие обстоятельства поставлен человек. Словом, от бесконечного множества условий внутри и вне. Одно ясно: хорошо бы научиться думать, держать свои мозг в постоянно наполненном состоянии, тренировать его, как спортсмен тренирует тело, как пианист — руку.
Я вижу нашу Олико, девушку трезвую, решительную, лишенную сантиментов, попавшую в обстановку, сильно разнящуюся от той, в которой она была до сих пор. Там опека — родительская, институтская, всяческая. Здесь — полная свобода от всех и всего. Никто ничего тебе не запрещает и не навязывает. Живи как хочешь! Вокруг такие же оторванные от родительского гнезда, еще не оперившиеся, но уже вкусившие свободу юноши и девушки. Надо разобраться в людях и самой позаботиться о себе. То есть уметь быстро поворачиваться, потому что чувство ответственности заставляет считать время, которое всегда несется, считать деньги, которых всегда мало...
И свобода начинает выглядеть отнюдь не столь привлекательной, как это казалось вначале.
Между тем рядом происходят события, от которых не отгородишься. Колония учащихся в каком-то странном возбуждении. Олико с подругами, при всей своей кажущейся бойкости (больше на словах, чем на деле), все еще пока сторонится других. Во-первых, потому, что они в Цюрихе еще новички. Во-вторых, хоть из России, да не русские, воспитанные в иных традициях, условиях и нормах поведения. Не следует и это сбрасывать со счетов. Процесс знакомств и освоения проходит тут медленнее, чем, скажем, у калужских девушек с орловскими, у московских — с петербургскими.
Есть, конечно, и места общих встреч. Например, кухмистерская (дешевая студенческая столовая, организованная эмигрантами), или библиотека, куда устремляются решительно все студенты из России. В этих местах получают не только духовную н телесную пищу. Здесь обсуждают свои дела, делятся информацией. Словом, это — кусочек родины, свой дом. Но именно из-за библиотеки и разгорелись здесь такие дела, которые потрясли весь эмигрантский и студенческий мир Цюриха. «Зелененькие» всех мастей участия в них не принимали, но не могли и пройти мимо них.
О «БИБЛИОТЕЧНОМ ИНЦИДЕНТЕ»
Небольшая группа молодых эмигрантов, из которых Росс был первым основателем библиотеки, выработала и приняла устав ее как общественного учреждения еще в эпоху, когда число учащихся в Цюрихе было незначительно. Состоя из людей уже определившихся, они хотели придать библиотеке характер общеобразовательный и вместе с тем сделать из нее школу для выработки социалистического мировоззрения. Чтобы обеспечить такой характер цюрихского книгохранилища, они создали правила, отдававшие все управление библиотекой в руки членов библиотеки, которыми являлись они сами, и те, которых потом путем баллотировки они кооптировали как подходивших к ним по направлению. С другой стороны, всякий желающий пользоваться книгами библиотеки мог за определенную плату записаться в число читающих, подобно тому, как это делается в обыкновенных коммерческих библиотеках.
...Мало-помалу вскрылась ненормальность того, что библиотека, считающаяся общественной, пополняемая пожертвованиями из России и средствами читающих, является делом кружка, а большинство учащихся, именем которых она создается, остается пассивным элементом в своем деле. Бардина написала в этом смысле горячую статью в Книге Жалоб, как мы называли книгу заявлений, лежавшую в читальне.
...По уставу на общем собрании членов читающие имели право присутствовать в качестве публики. Поэтому в решительный день зал в Бремершлюсселе был полным-полнехонек мобилизованными силами обеих сторон. На одном конце стола заседало человек 20—30 действительных членов, а сотня недовольных заполняла остальное пространство. Прений долгих не было, потому что члены очень хорошо знали все неудовольствия и требования, а решение не уступать было у большинства уже предрешено. Так среди общего возбуждения наше желание встретило отказ, и когда раздалось «нет!», все возмущение вылилось наружу. Среди гула негодования кто-то произнес: «Господа! Мы все выходим из этой библиотеки и организуем сейчас же свою, новую!». Тут, как по сигналу, все двинулись вон. Тщетно Росс вскочил на стол и, жестикулируя, пытался сказать что-то, думая удержать публику.
На улице было решено тотчас же устроить собрание для принятия дальнейших решений. Несколько человек побежали вперед, быстро наняли помещение и вернулись указать его. Собрание, на которое пришел и Лавров, до сих пор не вмешивавшийся в нашу распрю, состоялось многолюдное и оживленное. Его целью было оборудовать материальную сторону необходимой для всех новой библиотеки. Было решено все книги, какие есть на руках, не сдавать в старую библиотеку, а как общественное достояние передать в новую библиотеку. Кассир старой библиотеки (Смирнов) и библиотекарша (Идельсон) были все время на нашей стороне и вместе с нами ушли из Бремершлюсселя. Они заявили, что деньги и книги, имеющиеся у них, они передадут нам. Так нам достались те 10 пудов книг, которые только что прибыли как пожертвованные из России. Был пущен подписной лист для приобретения книг и тотчас испещрен значительными суммами. В момент общего подъема было внесено предложение обеспечить новорожденное учреждение постоянным помещением и для этого не больше не меньше — купить дом. Подписка, на это предприятие тотчас же дала 10—15 тысяч франков, причем главный взнос был сделан богатыми орловскими помещицами Субботиными из кружка «фричей»...
Вера Фигнер «Студенческие годы». 1929 год.
Библиотечный инцидент разбередил старую, глубоко сидящую неприязнь между двумя лагерями цюрихских политических эмигрантов. Для вспышки достаточно было крошечной искры. Эта искра появилась в виде Николая Соколова, некогда видного публициста «Русского слова» и автора книги «Отщепенцы». Из-за этой крамольной книги, поданной на рассмотрение цензурного комитета в день, когда Каракозов выстрелил в царя, т. е. в самый неподходящий для крамольных книг день, Соколов угодил в крепость. Затем он долго мыкался по ссылкам и наконец бежал за границу. А «Отщепенцев» издали бакунинцы в своей типографии и направили в Россию нелегально. Книга имела большой успех. Тем временем автор ее, испытавший много жизненных невзгод, основательно спился. И вот однажды, вскоре после библиотечной распри, он прихватил с собой еще двух бакунинцев и явился на квартиру к бывшему приверженцу Бакунина, Валериану Смирнову, тому самому, что переметнулся в лагерь лавристов. Там произошло объяснение, в итоге которого Николай Соколов избил Смирнова.
Посмотреть бы на это как на выпад психически неуравновешенного человека. Но нет. И другие эмигранты тоже были порядочно измотаны несладким существованием на чужбине. И другие были не совсем здоровы душой. А тут еще молодежь, не остывшая от недавних бурных событий на Бремершлюсселе. Искра упала в сосуд с легко воспламеняющимся материалом. И все, что последовало за этим, было недостойно, позорно, огорчительно и не вызвало у Олико ни понимания, ни чувства солидарности со странными забияками...
Олико — Нико
Апрель, 1873 г. Цюрих.
Солнце печет невыносимо. Небо безоблачное, итальянское. На улицах непроходимая грязь. В воздухе носятся вперемешку снег, дождь, град. По улицам мчится тройка удалая — Като, Ботя, Оля — с огромными зонтиками, подняв по колено кисейные платья. Мчатся они на экстренное собрание. Вбегают, как помешанные. Заседание в полном комплекте. Крик, шум, движение... Ничего нельзя понять. Один начинает говорить, другой его прерывает. В чем дело? А вот в чем: поколотили Смирнова! Поколотила россовская компания (помнишь, здесь две партии). Да за что? А бог весть за что! Потому что они — россовская компания, а Смирнов — не россовская. Мы вполне удовлетворены ответом и слушаем дальше. Обсуждают, как наказать виновников: Светловского, Соколова и Рулева (может быть, знаешь их?). Все единогласно решают выгнать ил из Цюриха через посредство полиции. Составляют жалобу, выбирают комитет, который отправится в полицию, и т. д. Затем заседание заканчивается, начинаются частные разговоры. Все в негодовании на этот «зверский поступок», недостойный развитых людей Следующий день... Такая же погода. Та же тройка, но гораздо стремительнее, направляется туда же. Несколько женщин окружены толпой. Со всех сторон раздаются аплодисменты и крики. Женщины! О женщины! Они заявили себя! Храбрость и отвагу высказали перед мужчинами! Срам, мужчины! Да что такое?! У женщин действительно сияющие физиономии. Да такие сияющие, что я совершенно убедилась, что они открыли одну из великих тайн мира сего. Открываю рот, чтобы спросить объяснений, напрягаю все свои мозги и вдруг чувствую, что на меня выливают ведро холодной воды.
Над моим ухом раздается: «Толпа русских женщин в два часа дня напала на Росса и отколотила его!».. Я оглядываюсь: верно, я ошиблась? Не может быть! Ничуть не бывало. Вот Чернышев объясняет окружающим, что если б от этого лопнуло все женское дело, все равно это следовало сделать. Слышу и ушам не верю. Да неужели все так говорят сегодня? Да, все, за исключением Васильева и каких-то двух барышен. Фу, черт возьми...
Тройка, уже не так стремительно, удаляется оттуда. Вот какие творятся у нас здесь дела.
Да, и такие могли быть (и бывали) дела в пестрой, разношерстной, трудно существующей эмигрантской среде. Не мудрено, что Олико восприняла их с наивностью человека, еще совершенно не искушенного ни жизнью, ни политической борьбой, ни самыми обыкновенными эмигрантскими склоками. И все же хорошо, что все в ней протестовало против рукоприкладства как способа отстаивания своих идейных убеждений.
Но самое главное состояло в том, что голова ее и сердце в это время полнились другим: была весна — ранняя весна года, ранняя весна ее жизни. Иногда, крепко зажмурившись, она спрашивала себя:
— Да неужели все это правда? Неужели я учусь, я буду человеком?!
К этой мысли трудно было привыкнуть, освоиться с ней окончательно. Прошел всего лишь месяц, первый месяц ее новой удивительной жизни. Периоды сомнений, неверия, копания в себе сменялись у нее взрывами бурной радости, желанием выкинуть какой-нибудь фортель, спустить себя с цепи...
В такой именно час шли они однажды по улице, три девицы — Олико, Като и Ботя — и услышали звуки польки из дома с распахнутыми дверями. Ах, как хочется потанцевать! А можно ли зайти? Вопрос был обращен к Боте, как к цюрихскому старожилу. Ботя авторитетно заявила, что да, зайти можно. Народу полно, все пляшут. Правда, как-то слишком фривольно, в обнимку. Ботя уверила, что это ерунда, что здесь так принято, это же Европа!.. Но, может быть, им, девочкам, не следует? Почему не следует, когда так хочется, что просто нет сил больше смотреть? А тут еще подвернулся знакомый студент, и — они ринулись в толпу...
О как это упоительно! Музыка гремит. Лица у всех веселые, дурашливые. Катунья, как и следовало ожидать, звонко хохочет на всю залу. Только что это? Она отплясывает в объятиях какого-то пьяного господина? Это уже слишком...
Олико и Ботя, придя в себя от такого несимпатичного зрелища, хватают Като за руки и быстро из этого дома наутек. «Что же это за дом?»—обсуждают они, притихшие и пристыженные, по дороге в свое «воробьиное гнездо». В очередном письме в Париж, не скупясь на краски и не щадя ни себя, ни своих подруг, Олико описывает все это.
Нико — Олико
Апрель, 1873 г. Париж.
Когда вы вышли из института, я заметил, что в вас, как в большей части молодых девушек, особенно сильно вырвалась страсть делать все, что взбредет в голову, все, что подсказывает минута, каприз, фантазия и прочее. Вы шалили, и это было очень красиво. Но я не заметил ни тогда, ни потом, чтоб в вас (я говорю вообще) развилась другая необходимая черта — анализ раньше, чем сделать то, что подсказывает минута или аппетит, анализ именно того, насколько подсказывание действительно составляет требование вашей натуры или взбрело в голову бог знает откуда и бог знает надолго ли. Другая особенность — вы редко задумываетесь о том, в какое положение ставите других, поступая тем или иным образом. Быть фантазером, следовать своему капризу и побуждениям могут только люди, не принужденные отвечать за свои действия, поведение которых не ложится своей тяжестью на других.
Начиная с того, что вы, оказывается, не знаете ни того скрытого ожесточения высшего цюрихского общества, которое укоренилось против учащихся женщин, ни той власти, которая предоставлена цюрихской конституцией цюрихскому правительству. Есть две категории личностей, не пользующихся в Швейцарии вообще (и в немецкой в особенности!) решительно никакими правами и предоставленных произволу полиции: незамужние женщины (так называемые «вольные») и иностранцы. Цюрихский закон дает такое широкое толкование слову «вольная женщина», что сюда могут подходить все без исключения женщины, не имеющие в Цюрихе недвижимой собственности или не записанные в число гражданок Цюриха. Так что полиции стоит только захотеть, и вы в качестве а) иностранок, б) женщин — не гражданок, в) «вольных» или почти что неприличных женщин можете быть изгнаны из Цюриха к особенному удовольствию высшего цюрихского общества, на которое опирается правительство. Вы видите антагонизм студентов-швейцарцев и легкомысленно утешаетесь, что это-де ничего, «презрейте мой ответ на дерзкие слова!». Но за этим антагонизмом кроется другой, гораздо более опасный, ловкий и умный. Он не компрометирует себя студенческими выходками, он внимательно выжидает ваши ошибки и основательным манером эксплуатирует их с целью уронить доверие всех и каждого к учащимся женщинам. Так расчетливо поступили эти господа, увидев какую-то несчастную нигилистку в гимнастическом зале в мужских штанах. Для того, чтобы знать, на что способна эта партия, нужно вспомнить, как раздула она эту историю во всех газетах мира. Нужно вспомнить, как ловко она повела свое злодейское дело, как ловко укрылась за «студентами, желающими учиться, а не шалопайничать», как фарисейски проливала слезы по поводу легкомыслия госпожи икс (фамилия была пропечатана полностью). И ты знаешь, как далеко пошла эта выходка и как повредила женскому делу. Вам следует смотреть в оба, чтоб не попасть, в такую же ловушку из-за невинной, вздорной или остроумной шалости и не сделаться причиной или поводом затруднений женского дела и посмешищем всего читающего люда.
Олико — Нико
Апрель, 1873 г. Цюрих.
Я знала заранее, что наш казус должен был подействовать на тебя так неприятно. Действительно, сознаю, что это было глупо, необдуманно. Именно так бывает с молодыми девушками. Потом мне самой было досадно, что я действовала так легкомысленно и необдуманно там, где нужно было призадуматься. Но нет худа без добра. Этот факт будет мне наукой в дальнейшем.
Като писала тебе, что мы вместе хотим заняться историей и литературой, г. е. писать сочинения на какую угодно тему и читать перед всеми. Для этого мы хотим читать статьи из журналов, романы, а потом писать разбор прочитанного. Что ты об этом думаешь?
Нико — Олико
Апрель, 1873 г. Париж.
Дело, которое вы начинаете, очень и очень хорошее дело. Если вы выдержите и не охладеете, то польза будет несомненная. Если вы беретесь за беллетристические произведения, то имейте в виду, прежде всего, «Отечественные записки», где этот отдел стоит выше, чем во всех других изданиях. Если хотите обратить внимание на легкое изложение современных вопросов, то тут лучше всего «Неделя», хоть она весьма часто делает промахи. «Дело» же замечательно особенно вздорными и решительно бездарными повестями на общественные темы, но оно пахнет или «умиковскими» рассуждениями о треволнениях жизни, или щербаковщиной самого гимназического свойства. «Дело» развивает и вырабатывает фразеров, модных шумих и т. д. «Вестник Европы» по беллетристике плох как нельзя больше, по общественным же вопросам умерен до пошлости. И в том и в другом случае скучен и тяжел до тошноты. Теперь, зная это, выбирайте сами, что бог вам на душу положит. Но принимая во внимание ваше желание познакомиться с литературой и относиться критически к ее произведениям, я посоветовал бы вам лучше взять классические произведения не только русской, но и иностранной литературы, прочесть их сообща, прочесть затем отзывы на них Шерра и других критиков (Белинского, Ругэ, Добролюбова, Сент-Бёва, Планша и т.д.) и потом сравнить, действительно ли критики указали на основные черты произведения и извлекли из него все, что можно было извлечь. Я пробовал делать так, и мне это чрезвычайно много пользы принесло. Не говоря о том, что двадцать так называемых современных романов не могут сравниться с «Мейстером» Гёте, «Тристрамом Шенди» Стерна или «Мертвыми душами» Гоголя.
Затем, прощай. Я негодую на тебя, на Ботю, на весь мир за то, что вы не пишете, что ты пишешь редко и мало... А на себя за то, что это меня, покамест, огорчает. Но дай срок, и я надеюсь оправиться, сделаться совсем безучастным и по части бесчувственности и равнодушия превзойти даже гнуснейшую Ботю. хоть это и трудно и даже физически невозможно. Она по этой части достигла геркулесовых столбов апатии и деревянности. Жму твою руку очень крепко и сердито.
...Сие белое пространство знаменует, что я крайне огорчен. Если ты захочешь отомстить, то можешь прислать в конверте совершенно белый лист почтовой бумаги. Но это будет неостроумно, ибо подсказывается мной самим.
Нико настойчиво требует чуть ли не ежедневных писем из Цюриха, хотя, казалось бы, сыт по горло и ткибульскими делами, которые привели его в Париж, и бурными событиями парижской политической жизни.
В одном из писем он просит Олико приехать к нему на недельку. Мол, эта мысль пришла в голову не только ему, а всем его друзьям, когда они выходили из Собрания. Они решили, что Олико можно переодеть в «гарсона». Кстати будет и ее мальчишеский вид и темные усики над губой.
В другом письме Нико сожалеет, что девочки не видели похорон Дориана, крупнейшего деятеля республиканской партии. Парижские бульвары были буквально битком набиты. В городе остановилось движение. Сняв шляпы, провожали люди похоронную процессию, во главе которой шел Гамбетта, за ним Луи Блан, Консидериан и другие. В толпе тихо говорили о Дориане, о том, как он отливал пушки во время осады Парижа. Но больше всего поражала Нико необыкновенная общительность в этот час всех парижан. Никто никого не спрашивал, из каких он стран и каких воззрений. Если провожаешь Дориана — значит, друг...
Нико — Олико
Апрель, 1873 г. Париж.
Я знал, что на его могиле будут произнесены речи, поэтому мы употребили сверхъестественные усилия, чтоб протиснуться через десять тысяч человек и поместиться у самой могилы. Речь Гамбетты была проста, дельна и трогательна. Причем у него хватило скромности и мужества сказать, что он, Гамбетта, действовал по советам Дориана, исполняя его волю, следуя его указаниям. Но речь была до такой степени сильна и трогательна, что я откусил себе язык, чтоб не прослезиться, а Микеладзе, которого мы вынуждены были предоставить своей участи, вдруг гаркнул: «Вив ла Републик!», да так гаркнул, что вся десятитысячная толпа принялась гаркать, аплодировать и шуметь, словно она была в театре, а не на похоронах. Как ни скучно и однообразно, должно быть, лежать целые годы в могиле в объятиях одной и той же гробницы, но, ей-богу, можно примириться с этой скукой, если имя человека превращается в знамя, соединяющее массы...
Сейчас мы втроем отправляемся на избирательное собрание. Я хочу дойти до чертиков и окончательно расстроить себе нервы, как когда-то мне хотелось, когда я был голоден, как собака, прохаживаться мимо лавок со съестными припасами и глотать слюнки...
Олико — Нико
Май, 1873 г. Цюрих.
Нико, ради бога, не злись на меня и не обвиняй в бесчувственности. Во-первых, сначала я писала тебе очень часто, чаще писать я не способна. А последнее мое письмо действительно запоздало потому, что было некогда. Честное слово, я каждый день собиралась тебе писать, но все не удавалось: сядешь переводить, потом за математику, потом почитаешь — вот и день прошел, не заметишь, как. Ты говоришь, что я пишу мало. А что делать, если в здешней жизни я не нахожу столько материалу, сколько ты там, в парижской. Хорошо тебе так говорить: вчера Национальное собрание, сегодня — похороны Дориана, завтра — Избирательное собрание и так далее. Хоть каждую минуту пиши! А что здесь? Разве описывать тебе речи Лаврова на собраниях? О здешней жизни я писала, и теперь все то же: «Застрелим этих подлецов (россовскую компанию), выгоним из Цюриха, нас никто не удержит, от этого!» Но никто никого не удерживает, и, может быть, потому никто никого не застреливает. И вот каждый день слышишь одно и то же...
И зачем разжигать во мне желание ехать в Париж? Ты же знаешь, какая я сумасшедшая. Честное слово, я бы непременно поехала и переоделась в мальчика (наплевать на ехидные насмешки). Но вот что удерживает меня: ведь не скажут, что, мол, Гурамова переоделась в мальчика, а скажут — русская студентка.
В «Угели» перемены: вместо четырех раз будем собираться два раза в месяц. Во-первых, потому, что лекции начались и некогда нам сходиться каждое воскресенье, а во-вторых, за две недели можно набрать больше материалу, чтоб написать. А то теперь наши собрания больно неинтересны. Но мне кажется, что об этом, втором факте, к сожалению, совершенно справедливом, нам и следовало бы поговорить. Мы собираемся только, чтоб собраться, а пользы от этих собраний никакой не выносим. Мне кажется, это оттого, что очень мало уделяем на это времени. По крайней мере я лично. Из «Раппель» иногда положительно нечего сообщить. Мне бы следовало читать и другие французские газеты, но это у меня отнимает слишком много времени, а я, ей-богу, не знаю, откуда его взять.
Армяне вчера устроили танцевальный вечер и нас, грузин, пригласили туда для сближения. Общество их до сих пор не совсем устроено, все составляют статуты.
Я забыла тебе написать: Бакунин в настоящее время здесь. Он приехал примирять все враждующие партии, предложил... третейский суд. Эти не приняли. Они ужасно вооружены против Бакунина, потому что он заявил, что не желает являться на их собрание, во-первых, чтоб не скомпрометировать их, так как он эмигрант, а они верноподданные, во-вторых, чтоб не скомпрометировать себя, решившись объясниться с ними.
А «Дроша» милая штука! Право, особенно политический отдел. Ни одна газета из тех, которые я сейчас читаю, не сравнится. Такая газета за границей, да на грузинском языке — это хоть куда! Олимпиада даже прослезилась от восторга. Что так долго нет номера? Мы ждем с нетерпением.
И пришло же в голову где-то далеко от родины, в городе, располагающем к шатаниям, глазениям, переживаниям, развлечениям, засесть за составление газеты! Газеты, которой уготовано жить всего лишь в нескольких номерах, газеты тиражом в несколько экземпляров, газеты, которую прочтут несколько человек... Но в комнате у Нико стоял станок, и смотреть, как он «молчит», было выше его сил. А тут, в Париже, слоняется Давид Микеладзе — товарищ, сверстник, журналист. И почти неотступно с ними — начинающий журналист Павел Измайлов. В Цюрихе же целая компания молодежи, кото рой хорошо бы продемонстрировать, как должна выглядеть злободневная газета на родном языке.
Вот так, полусерьезно-полуиграючи, заскрипели перья на тему о делах кавказских и событиях парижских, об идее союза кавказских народов, о близком конце Тьера и т. д. и т. п. Словом, на темы, которые просились с кончика пера.
Три раза вышли по четыре небольших странички «Дроша» с подзаголовком «Социальная газета». И плюс — отпечатанный тем же гектографическим способом портрет редактора «Дроеба» Сергея Месхи. Может быть, вышло бы и больше номеров. В те годы в самой России и за границей появлялись подобные недолговечные «вольные», неподцензурные газеты. Появлялись и исчезали. Но «Дроша» и не претендовала на долговечность. Тем более, что Нико стал спешно сворачивать свои дела. Ведь главной целью этой поездки в Париж было устройство ткибульских дел. И он нашел в Париже хорошего горного инженера — Лароня, уговорил его поехать на месторождение и помочь разобраться во всех делах на месте.
Но прежде чем отправиться в путь, он выехал в Цюрих повидаться со своими и ненадолго проститься с ними.
А в Цюрихе эмигрантские распри уже как-то поутихли, и наши «угеловки» в какой-то мере освоились с обстановкой. Прошла у них оскомина от потасовок, появились знакомые и приятельницы из кружка «фричей». То были девушки живые, дружные, острые на язычок и полные интереса к своим кавказским товаркам. Можно себе представить, какие пошли расспросы о незнакомом для них крае, обычаях, традициях, языке, народностях, населяющих Кавказ. Со своей стороны «угеловки» тоже во все глаза разглядывали русских девушек, присматривались и прислушивались к их суждениям, задавая им тысячу «почему».
Среди «фричей» сразу же обращала на себя внимание коротко остриженная головка Софьи Бардиной, ее высокий лоб, умные глаза и руководящий тон, который сразу же выдавал в ней старшую в этой девичьей компании. Недаром компания прозвала ее «теткой» и высказывала всяческие к ней знаки почтения. Также выделялась среди других Вера Фигнер. Про нее сразу можно было сказать: «Вот это личность!» А Дора Аптекман, прозванная «гусаром», ошеломляла своим высоким ростом. Подружились наши «угеловки» с сестрами Субботиными и с сестрами Любатович, с белокурой Варварой Александровой, с тихой Катей Гребницкой, сестрой Д. Писарева.
Всем им, разумеется, было доложено, что у Катуньи с Олимпиадой есть брат Нико, известный поднадзорный журналист. Что он сейчас в Париже и скоро приедет сюда. Что он хорошо знал Николая Гавриловича Чернышевского и считает себя его учеником. Знал и Александра Ивановича Герцена, печатался в его «Колоколе». А после выстрела Каракозова в царя написал крамольную брошюру: «Правительство и молодое поколение». Но так как на издание ее не было денег, он без спросу забрался во владения Герцена (в Вольную Русскую Типографию в Женеве) и своими руками все набрал и отпечатал. Вот какой человек Нико...
«Фричи» слушали все это с настороженным любопытством. Ведь некоторые из них работали в типографии Лаврова, набирали его «Вперед» и сочувствовали его народничеству. С другой стороны, их привлекал Бакунин с его отчаянными призывами к подвигам.
Но ничего они не знали пока о себе. Ровным счетом ничего. Дети состоятельных (а, порой, и очень состоятельных) родителей, они пока учились, впитывали все, что можно было впитать, и хотели уехать отсюда образованными людьми. Не думали, не ведали они того, что всего через год волна революционного движения в народ словно слижет их с этого чужого берега на родину и много тяжелого, непосильного взвалит на их юные плечи.
А пока они еще здесь, в Цюрихе, глаза на жизнь у них широко открыты, и они просят своих грузинских подруг познакомить их с Нико.
Вот и случай представился. О чем же рассказать этим милым существам? Наверно, о том, как складывалась его жизнь тогда, когда он был таких же лет, как они сейчас.
 Это было в Петербурге, в 1861 году. Ему шел тогда 18-й год. Он уже отсидел в Петропавловской крепости и в Кронштадте за участие в больших студенческих волнениях. Его фамилия в общем списке участников-студентов появилась в «Колоколе» под статьей «Исполин просыпается». Сердце было полно гордыни. Хотелось совершать подвиги. А так как полицией предписывалось вернуться домой, к родителям, на поруки, он скрывался тайно у поэта Акакия Церетели, на его петербургской квартире. Выходил на улицу редко, в черкеске, притворяясь слугой грузинского князя.
Это было в Петербурге, в 1861 году. Ему шел тогда 18-й год. Он уже отсидел в Петропавловской крепости и в Кронштадте за участие в больших студенческих волнениях. Его фамилия в общем списке участников-студентов появилась в «Колоколе» под статьей «Исполин просыпается». Сердце было полно гордыни. Хотелось совершать подвиги. А так как полицией предписывалось вернуться домой, к родителям, на поруки, он скрывался тайно у поэта Акакия Церетели, на его петербургской квартире. Выходил на улицу редко, в черкеске, притворяясь слугой грузинского князя.
«Вот в эти дни, перед рождественскими праздниками, — рассказывал Нико, — ко мне неожиданно зашли две очаровательнейшие дамы, старшая из которых сказала, что она жена Чернышевского и просит одолжить ей черкесский костюм для маскарада. О ней я много уже слышал от товарищей, познакомившихся с нею во время нашего заключения и часто у нее бывавших. Разумеется, я тотчас же исполнил ее желание. С ней была сестра, много моложе ее. Обе были темноглазые, брюнетки. Старшая казалась даже грузинкой и была гораздо бойче сестры, нежный взгляд которой, казалось, старался скрыть симпатию к вам. Звали старшую Ольгой Сократовной, а младшую Минадорой. Уходя, Чернышевская властно приказала мне завтра же прийти к ней за костюмом и на чашку чаю. «Я вас познакомлю с Чернышевским!» Я не верил своему счастью и чуть с ума не спятил.
Кое-как дождался я следующего вечера, считая часы и минуты. Они жили на Владимирской, наискось от собора. Гости уже сидели за чаем в столовой. Хозяйка разливала чай, но самого Чернышевского в комнате не было. Ольга Сократовна сказала, что он скоро придет. За столом сидело около дюжины гостей и только две дамы, мои посетительницы. Большинство гостей состояло из грузин, студентов старших курсов, великовозрастных красавцев в щегольских костюмах и с модными тогда бородами и прическами.
Сущность разговора, врезавшегося мне в память, заключалась в том, что один из студентов, князь Иван Андроников, впоследствии видный кахетинский винодел, восторгался рассказом о безбоязненном поведении в Сенате М. Михайлова, открыто выложившего свои убеждения и произнесшего вместо защитительной обвинительную речь против правительства. Чернышевская прервала его восторги замечанием, что Николай Гаврилович, ее муж, очень сожалеет о таком поведении Михайлова. Ему вовсе не следовало сознаваться, а нужно было сделать все, что только возможно, чтоб спастись. Нас уже не так много, чтоб самим лезть в петлю. Андроников сконфузился и не возражал, тем более, что в столовую вошел Чернышевский, подтвердивший последние слова жены и сказавший в нос и скороговоркой две-три фразы в том же смысле насчет того, что глупо откровенничать с начальством, которого все равно словами не вразумишь.
Тут я был представлен ему женой с прибавлением, что я — один из сидевших в крепости. С непередаваемой улыбкой он задал мне о моих впечатлениях несколько вопросов, от которых меня бросило в пот и волнение. Он скоро оставил меня в покое. Я нисколько не обиделся полуироническим тоном его вопросов о крепости, сознавая естественность отношения ко мне, как к малышу, со стороны человека, так мало церемонящегося с гигантами.
Когда я уходил, Чернышевская сказала мне обычную всем хозяйкам фразу: «Заходите почаще». Я, однако ж, при всем желании бывать у них, не мог не стесняться, тем более, что мне довольно далеко было ходить. Снова ее сестре понадобилась черкеска, и они заехали ко мне в экипаже, запряженном чудесным рысаком, на котором они и повезли меня к себе. Мало-помалу я к ним привык, перестал стесняться и стал «ручным» в их доме.
Чернышевский редко показывался гостям жены, а все время сидел в кабинете, куда редкий из них заходил. Едва ли не один М. А. Антонович, которого мы считали преемником Добролюбова, свободно входил в кабинет. Кроме него из грузин студентов, у Чернышевского бывали устроители студенческих вечеров, чтений и некоторые профессора университета. Но мое особое внимание обращали тут военные, офицеры Генерального штаба, между которыми было много полковников, но бывали и генералы. Помню самоуверенный вид полковника Сераковского, поляка, блистательного красавца, про которого Ольга Сократовна говорила, что Николай Гаврилович очень его ценит за ум и многостороннее образование. Он тоже свободно заходил к Чернышевскому в кабинет и подолгу там оставался. Когда они выходили оттуда вместе, меня удивляли знаки глубокого уважения, с которыми Сераконский относился к нашему писателю. Мог ли кто-нибудь из нас тогда, любуясь этим героем, украшенным всевозможными знаками отличия и щеголявшим верою в свою звезду, вообразить себе, что менее чем через год он будет повешен в Вильне Муравьевым?..
В январе всякие волнения в столице прекратились. Петербургским генерал-губернатором был назначен Суворов, внук знаменитого полководца. Наслышавшись об его благодушии, я дерзнул подать ему прошение о разрешении остаться мне в столице. Прочтя на прошении мою фамилию, он спросил меня по-грузински: «Картули ици?» («Знаешь ли грузинский?»). На мой ответ на том же языке, что, разумеется, знаю, последовала резолюция: «Карги» («Хорошо»), И адъютанту было указано распорядиться о выдаче мне вида на жительство. Так просто состоялось освобождение мое от нелегального положения».
— А как вы познакомились с Герценом? Расскажите о Герцене!
Здесь Нико говорить было труднее и не столь приятно, как о Чернышевском. Отношения с Герценом у него были сложные, не однозначные, а в определенный период даже крайне обострившиеся. Но об этом рассказывать девочкам не имело смысла. А вот о начале знакомства с этим выдающимся деятелем России он готов сказать.
«Осенью 1864 года мне удалось уехать за границу, в Париж, где я буквально не выходил из библиотек и не отрывался от книг. Там, в конце концов, совсем неожиданно, разыскал меня Герцен, появление которого в моей мансарде, в узкой и закопченной улице Латинского квартала, произвело огромную сенсацию. Хозяйка меблированных комнаток, еще утром третировавшая меня за неисправность во взносе квартирной платы, после этого посещения самолично поднялась ко мне с кипятком для чая. За ту зиму, и весной 1865 года, Герцен навещал меня во время каждого своего проезда через Париж, В то время он перебирался на постоянное место жительства из Лондона в Женеву и часто бывал в Париже. Помню, завезя ко мне Евгения Исаевича Утина, впоследствии ставшего известным публицистом. «Вестника Европы», и застав меня за сочинением фельетона для «Санкт-Петербургских ведомостей» Корша о смерти и похоронах Прудона, он много смеялся над моей манерой работы. Увидя меня окруженным массой сочинений Прудона и о Прудоне и убедившись, что я их прочел, он предсказал мне, что состояния я себе не составлю писаниями, если столько буду к ним готовиться. Когда он прочел ту мою статью в газете, он очень горячо оспаривал высказанные в ней мысли и находил их несправедливыми. Эта же статья заслужила лестный отзыв философа Лаврова, целиком перепечатавшего ее в «Заграничном вестнике», издававшемся тогда книжным магазином Вольфа под его редакцией. А известно, что сам Лавров немало писал о Прудоне и прекрасно знал его сочинения.
Летом Герцен уговорил меня написать для «Колокола» статью об освобождении крестьян в Грузии. Я долго отнекивался, ссылаясь на свою неподготовленность. А он хохотал вовсю своим заразительным смехом над моею, как он выражался, «институтскою наивностью».
— Да кто же из журналистов к чему-либо подготовлен? — спрашивал он.— В том-то и их назначение, чтобы писать о новостях никому, начиная с них, неведомых!..
Я оспаривал сколько мог этот парадокс, но, любя его именно за парадоксы, в конце концов, дал статью...»
Внимая всем этим рассказам, «фричи», вероятно, пересматривали свое недавнее слишком литературное, отвлеченное представление о Кавказе и кавказцах. Вот они сидят с девушками-грузинками, слушают интересного человека, грузинского революционного демократа-публициста, которого волнуют те же проблемы, что и русских деятелей. Но и еще что-то свое. Да, да — еще что-то свое!..
А Нико? Нико, как всегда в женском обществе, приподнят, обворожительно улыбчив. Сколько прекрасных, юных лиц обращены к нему! И среди них особо близкие ему лица Боти и Олико. Одно — полное доверчивой ласки, другое — дружеское, но слегка ироническое. И оба одинаково дороги.
Пообщавшись так с молодежью, побродив по знакомым редакциям и университетским коридорам (ведь именно в этом университете он тоже слушал лекции и защитил диссертацию на доктора прав!), Нико вернулся в Париж. Здесь он упаковал станок, целую кипу добытых в Париже полезнейших книг и отправился вместе с французским инженером в нуть. Домой!
Но на австрийском пограничном пункте ему вдруг учинили досмотр и отобрали все — книги, станок, даже те самые отпечатанные на станке угельские протоколы... Хорошо сработали шпики Третьего отделения, шныряющие по русским колониям в Цюрихе и Париже. Иначе зачем было австрийским таможенникам рыться в его вещах? И вот теперь его, стреляного воробья, великого специалиста обманывать русскую границу, услужливо облегчили задолго до нее. Какие же последствия будет иметь все это дома? Опять гласный надзор? А может быть, что-нибудь построже?
В памяти воскресли последние цюрихские встречи, два девичьих лица: одно, полное томной ласки, другое дружески-ироничное. Но оба одинаково дорогие. Вот ведь какая история!..
И Нико основательно загрустил...
Нико — Олико
Май, 1873 г. (По дороге в Тифлис.)
Оля, я засиделся в Вене, прозевал поезд и теперь не знаю, что буду делать. По всей вероятности, завтра утром уеду через Харьков и Таганрог на Ставрополь — Владикавказ. Описать все перипетии моего путешествия невозможно, да я совсем и не для этого взялся за перо. Я просто хотел написать тебе о многих предметах, но сосед мой, Ларонь, ударился в разговорный пафос, и я вынужден писать в его присутствии.
Дело, видишь ли, вот в чем: не знаю почему, но мне кажется, что ты теперь не так дружна со мной, как прежде. Мне это показалось на основании целой массы мелочей: мелких ощущений и наблюдений. И меня это глубоко огорчило. Если ты помнишь неприятность нашей парижской переписки — да будет тебе стыдно. Ты знаешь, что я прекратил ее только ради того, что она доставляла мне слишком много удовольствия, и мне с каждым днем хотелось увеличивать это удовольствие, как пьяница увеличивает дозу напитка. Злиться на это незачем. Помнить эту неприятность после того, как она прошла, достойно меня, нервно-впечатлительного до мстительности, но, отнюдь, не тебя...
Я давно уже привык смотреть на тебя, как на одного из самых дорогих моих друзей, и мысль, что в будущем мы будем такими же близкими друзьями, но еще более верными и сплоченными общей работой, давно уже всосалась в мой мозг. И, вдруг какая-то мелочь, ничтожная выходка могла уничтожить все это?
Послушай, ведь я просто не буду знать, что думать и что делать, если ты действительно озлилась на меня или охладела ко мне. Ведь, кроме Боти, нет на свете женщины, которую бы я так ценил и любил, как тебя... Я тебя люблю, как близкого друга, как не знаю что. Быть может, не так нежно, как люблю Ботю, но, ей-богу, не умею определить, как сильно я люблю тебя.
Черт возьми, это пахнет телячьей нежностью. Назови, как хочешь — написано, и баста. Подумай же, пожалуйста, что именно могло вызвать в тебе поворот к прежней сдержанности и холодности, чем оправдать твою вернувшуюся одичалость?
Не знаю, что может быть со мной через две недели, но я могу очутиться в мышеловке, могу очень долго не увидеть вас, и для меня будет чертовским мученьем думать, что ты вынесла из наших отношений хоть одно-единственное неприятное ощущение. Так будь добра, мила и помни о своем преданном друге
Нико.
Что делать? Как вести себя? Как «переварить» такое письмо от человека, в чувствах к которому ты еще не в состоянии разобраться? Знаешь, что ты ему нужна, что ты ему дорога. Вместе с тем почему-то задевают довольно обнаженные признания в том, что другую женщину, к тому же близкую твою подругу, этот человек любит нежнее, чем тебя.
Удивительно, до чего прямолинеен этот Нико! Может быть, таким образом он хочет довести до сведения Боти свои вздохи по ней? Но способ, по меньшей мере, странный, окольный.
Подумала-подумала Олико и показала письмо подружке — Боте. Они (девчонки еще, конечно!) похихикали над не свойственным для Нико минорным, жалостливым тоном. И у Олико отлегло от сердца. Она не из тех, кто долго развозит и муссирует чувствительные вопросы. Тем более, что обстоятельства заставляли думать о другом: заболела Олимпиада. Стала жаловаться на боли в груди. Девочки встревожились, показали ее лучшему в Цюрихе специалисту, профессору. Тот сказал, что легкие слегка задеты, но это не страшно, если тут же принять срочные меры. В Цюрихе ей жить нельзя, надо отправить до осени в курортный городок Давос.
Полетела телеграмма в Тифлис. Нико добыл и выслал деньги. Тоже очень встревожился. Потребовал, чтоб с Олимпиадой все время кто-то жил попеременно. У него были основания для паники. Еще свежа была память о смерти Ладико. Недавно похоронили Эстате Бродзели...
Возникла неприятность и другого рода. Как гром средь ясного неба грянул правительственный указ о цюрихской колонии русских учащихся.
О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ УКАЗЕ
В конце весеннего семестра 1873 года в «Правительственном вестнике» появилось сообщение относительно цюрихских студенток. Лицемерно соболезнуя увлечениям молодежи революционными, коммунистическими идеями и не добром поминая рефераты о Стеньке Разине и Парижской Коммуне, правительство воспретило студенткам дальнейшее пребывание в Цюрихе и, в случае упорства, грозило недопущением к экзаменам в России.
Впечатление от этого распоряжения было удручающее. Цель, ради которой мы приехали в Цюрих и ради которой было сделано столько усилий, отнималась. Затрата сил оказывалась напрасной — в будущем мы лишались возможности практического применения приобретаемых знаний, наши планы общественной деятельности разрушались. Мало того, правительственное сообщение не остановилось перед грязной клеветой и во всеуслышание объявило, что под видом науки студентки занимаются свободной любовью и применяют свои медицинские познания к истреблению последствий этой любви. Мы, учившиеся в Цюрихе, всего больше были оскорблены этим обвинением...
Обдумав деловую сторону вопроса и вчитавшись в текст правительственного распоряжения, мы легко нашли возможность обойти угрозу: циркуляр упоминал лишь о Цюрихе. В будущем лишались прав только те, кто останется там. О других заграничных университетах не говорилось ни слова. Переехать в другие города и в них продолжить курс — таково было решение, которое напрашивалось само собой. Оно и было принято теми, кто хотел продоложать учиться за границей.
Но проглотить молча обвинение в безнравственности казалось невозможным, и мы непременно хотели протестовать против клеветы, протестовать публично, путем печати. Созвали общее собрание студенток...
Собрание в Русском доме было многолюдно. Явились даже те, кто по благоразумию или по множеству занятий обыкновенно отсутствовал. Сразу обнаружилось разногласие и противоположность интересов: мы, перво- и второкурсницы, фуксы, энергично защищали идею протеста, а «спокойно-либерально-буржуазная партия» — студентки, близкие к окончанию университета — доказывали бесполезность, нецелесообразность и опасность этого шага. После горячих споров они, наконец, заявили, что если мы напечатаем протест, они выступят с контрпротестом и подпишут под ним свои имена. Мы были возмущены и моральной стороной такого контрпротеста и самим разногласием, совершенно дискредитировавшим публичное выступление, которое должно было быть общим. Поздно разошлись мы в эту ночь после бурных и довольно горьких прений...
Вера Фигнер «Студенческие годы». 1929 год.
Нико—Олико
(из Грузии)
...Здесь произвело громадное впечатление распоряжение правительства о русских женщинах в Цюрихе. Это распоряжение очень близко касается вас всех. Поэтому я хочу, чтобы, останавливаясь на каком-либо решении, вы имели под рукой всякого рода соображения. С. Месхи говорил, что распоряжение это не важно и не опасно. Следовательно, с его точки зрения подобает действовать так, как если бы этого распоряжения вовсе не существовало. Вот вам одно соображение. Второе: думаю, что жизнь в Цюрихе не представляет особых удобств, которые нельзя было бы выискать в других городах, например, в Берне. Необходимо, мне кажется, явиться в Россию по окончании занятий с «незапятнанной репутацией», а для этого, может быть, недурно выбрать другой центр для занятий. Во всяком случае бравировать правительством не следует, если на это нет положительно вынужденной необходимости. Примите в соображение и прочие обстоятельства и действуйте как знаете. Впрочем, лучше подождать до осени, не прерывая занятий.
Я сейчас еду верхом через Осетию и Рачу в Ткибули со специальной целью проверить с инженером, сколько рабочих можно будет набрать в нашем крае. В остальном дело обстоит довольно благополучно.
Олико — Нико
Июль, 1873 г. Цюрих.
Ты думаешь, что при появлении этого декрета насчет женщин мы струсили и бросили наши занятия? Неужели достаточно малейшего препятствия, чтобы у нас опустились руки! На малое же можно рассчитывать при такой энергии! Конечно, было очень неприятно, конечно, первые дни у нас только и были толки, что об этом. Но на третий же день мы принялись за занятия и продолжаем до сих пор. Как только ты приедешь, подробно сообщим тебе о своих треволнениях. Во всяком случае, мне кажется, что из Цюриха следует уехать. Куда? Этого я не знаю. Обо всех университетах здесь самые разноречивые мнения. Порешила ждать тебя. Кому я так поверю в этом деле, как не тебе? Но куда бы ни ехать, нужно всем нам, кавказкам, ехать вместе. Непременно. Очень много причин. Приедешь — переговорим.
Как я рада, что твои дела пошли хорошо. Но когда ты приедешь? Скорей, скорей — и, право, ты так далеко теперь, что, когда подумаю, сколько мое письмо будет идти к тебе и потом твое ко мне — даже охота пропадает писать. Ведь в сентябре ты непременно приедешь?
Как мне понравилось, Нико, «Ахали ахалгазрдоба»! Как будто там нет ничего нового, как будто все это уже знакомо, и все-таки, прочитавши, невольно призадумаешься. Посидев так некоторое время в раздумье, выносишь чувство, что все это было раньше в голове, но в хаосе бродило, а теперь улеглось в порядке и как следует.
Значит, в Цюрих пришел уже первый номер «Кребули» со статьей Нико Николадзе «Ахали ахалгазрдоба» («Новая молодежь»). Целью этой статьи было рассказать грузинским читателям о созданном в Цюрихе братском молодежном товариществе.
«Если дело пойдет хорошо, — писал он, — у обучающейся в таком порядке молодежи выработается общественный характер, недостаточность которого в настоящее время сильно затрудняет нашу родину. И чем дальше удержится такое товарищество, тем прочнее утвердится в нашей молодежи терпимое, разумное отношение к мелким различиям и разногласиям и непоколебимое требование главной общественной цели».
Николадзе считает, что если человек смотрит на жизнь «не как на транжирство своего жалования или дохода в веселых попойках», он должен строить свои поступки сознательно. И надо приучиться иметь одно желание, одну волю и одно действие, чтобы этими разумными действиями, объединенными и направленными к одной цели силами, а также дисциплиной, словно громом поразить старую прогнившую жизнь...
Во всяком обществе, — пишет Николадзе, — сколь бы ни было оно отсталым и неразвитым в политическом смысле, явно или тайно кипит партийная борьба. И у нас это так. А когда кипит борьба между партиями, когда имеются острые противоречия и споры, какой из партий должно руководить обществом и главенствовать в нации, то дело почти всегда решается в пользу той партии, которая имеет не только хорошо подготовленных членов, но может разумно использовать их силу и знания. Это право дает лишь единство, лишь дисциплина!
Большие надежды возлагал Нико на новое поколение молодежи! Он считал, что это поколение более подготовленное, более стойкое, чем то, которое представляет он сам. «Оно отнюдь не ищет примирения,— пишет он,— оно уверено, что примирение невозможно, пока одно поколение не подчинится другому и не разоружится. А так как старое поколение само разоружаться не хочет, новое попытается силой заставить его сложить оружие... Новое поколение своей верой, своей надеждой, горячим желанием и восторженностью приближает нас к той цели, которая тогда, когда мы вступили в жизнь, представлялась нам в убийственном отдалении».
От имени кого говорит Николадзе? От имени шестидесятников, к которым справедливо причисляет себя. Но от имени тех шестидесятников, которые понимают, что жизнь идет вперед и идеи, заложенные в умы шестидесятников-просветителей, не есть мертвая догма.
В те годы в Грузии очень обострилась борьба «детей» с «отцами», защитниками феодальных устоев. Группа во главе с Нико Николадзе, Георгием Церетели и Сергеем Месхи имела свои органы печати — «Дроеба» и «Кребули». К этой группе примыкал и любимый поэт Грузии Акакий Церетели. То были прогрессивные демократы, насаждающие в литературе и публицистике начатый Ильей Чавчавадзе свободный, лишенный помпезности, реалистический стиль письма.
К «Дроеба» и «Кребули» тянулась лучшая, передовая молодежь того времени. Написав свою «Ахали ахалгазрдоба» еще в Париже, Нико Николадзе ехал в Тбилиси с планами развить и усилить борьбу за организованность и дисциплину в рядах новой молодежи. Но инцидент на границе несколько пообрезал ему крылья и вынудил временно уйти в тень.
Императорская канцелярия сообщила Тифлисскому жандармскому управлению о конфискации станка и книг у «находящегося под надзором, политически неблагонадежного Н. Я. Николадзе». Цензурный Комитет был поставлен в известность, что изъятые у него книги относятся к числу запрещенных. Строгости по отношению к Николадзе усилились. Об обратном выезде за границу пока не могло быть и речи.
Нико отправил восвояси своего французского инженера. А с редактором «Дроеба» Сергеем Месхи договорился о том, что займется подготовкой к редакторской деятельности пока еще неопытного в журналистике Кирилла Лордкипанидзе, а также займется и выпуском номеров «Кребули». Что же касается Сергея, он может, пока суть да дело, ехать в Цюрих. Ведь там его невеста Кеке Меликишвили, и только чурбан не поймет, как рвется туда его душа...
Нико основательно застревал в Тбилиси. Официально ему не разрешалось заниматься ни одной из редакций, но эта сторона дела меньше всего беспокоила его. Все равно он будет «делать газету». И, оставив на время свои «капиталистические затеи», Нико полностью погрузился в родную стихию.
Редакционная стихия! Хочется представить себе, как выглядела она в Тбилиси сто лет тому назад. «Дроеба» тогда помещалась в аристократической части города, на Сергиевской улице (сейчас улица Мачабели) в особняке богача Амирагова. Несколько комнат, в которых писались статьи и творился газетный лист. Конечно, в то время в редакционных кабинетах не надрывались телефонные звонки, как сейчас; не стучали ундервуды и телетайпы. «Дроеба» была еженедельной, ее делали сравнительно тихо несколько человек. Но что было наверняка общего с нашими временами, так это человеческий ручеек, неумолчно журчащий в редакционных комнатах, хождение писателей, поэтов, публицистов и просто любителей общественных дел. И царил в этих комнатах, как всегда, дух споров, острот, всяческих придумок, и бился в этих комнатах гражданственный пульс города.
А город был совсем не из маленьких по тем временам — столица Кавказа с его центральными учреждениями, резиденцией царского наместника, военными, чиновниками, торговцами, полицейскими. Жили здесь и те, кто всю эту верхушку кормил, одевал, строил для них дома и выпускал товары. И был уже в городе Головинский проспект с тротуаром вплоть до Московской заставы (сейчас на этом месте станция метро «Площадь Руставели») с двух- и даже трехэтажными домами. Был большой красивый каменный театр, оформленный художником Гагариным, и Кавказский музей, и Публичная библиотека, и женское учебное заведение... А газеты местные выходили уже лет тридцать. Так что к газетам, как тогда говорилось, «туземная публика» вполне была приучена — и к русским, и к грузинским, и к армянским.
Нико — Олико
Июль, 1873 г. Тифлис.
Если бы ты знала, дорогая Оля, как мне здесь живется, ты поняла бы, почему я так мало пишу и почему мне так хочется читать ваши письма. Представь себе: утром жарко, хуже, чем в Абиссинии или Эфиопии какой-нибудь, после обеда — душно, под вечер становишься раздраженным вследствие того, что тут опоздает корректура, там — разбегутся наборщики, один пилит тебя за бесшабашную резкость статьи, другой упрекает в мягкости и уступчивости за ту же самую статью, третий угрожает тебе всеми муками и ужасами запрещения. Все это приходится выслушивать именно в тот момент, когда пишешь, когда Ефимий прерывает докладом, что Тулаев отнял у него шпоны, а наборщики Тулаева украли шпации и т. д. Это доводит меня, обыкновенно, к пяти часам вечера до такого состояния, что я начинаю кипеть в неприличном виде, пока не подует свежий вечерний «ниави», т. е. около девяти часов вечера. Тут я становлюсь сентиментальным, добродушным Маниловым...
У меня довольно объемистая коллекция писем, начатых для вас, но прерванных то плачем Иеремии-Умикова, то явлением Ефимия (чтоб черт его побрал!), то хохотом Георгия, то вздохами Кирилла. Когда-нибудь я потешу тебя всем этим, если удастся встретиться.
К делу, впрочем.
Сегодня посылаю тебе № 3 «Кребули». Он довольно хорош, мне кажется. Но я так сильно истомлен корректурным чтением его статей, что почти совсем потерял впечатление. Номера 4, 5 и 8 уже печатаются (часть, даже значительная, уже отпечатана). Вообще к 1 (13) сентября надеюсь выпустить №№ 4, 5, 6, 7 и 8, если не изменят наборщики, из которых одного, вследствие истомления, уже свезли в госпиталь. Это ужасно больно: между наборщиками уже начинает складываться убеждение, что я «дахоца наборщикебио» («уморил наборщиков»). И когда приходит новый наборщик, он первым делом говорит; «Авад ну гамхди да ковел гаме ну мамушавеб» («Не доводи меня до болезни еженощною работой»).
Передай Месхи, что «Дроеба» все еще висит на волоске. Кирилл со слезами на глазах принужден был врать, будто Месхи все еще в Кутаиси, потом в Поти и, наконец, остается в Одессе. По закону редактор, уезжающий за границу без разрешения цензурного ведомства, теряет право на издание газеты. А Месхи именно это и сделал, несмотря на все мои заклинания. Кирилл еще не утвержден и не скоро будет утвержден. При выходе каждого номера к нам привязываются, требуя личной подписи редактора на оттиске «Дроеба». Просто не знаем, что делать. «Дроеба» живет, ей-богу, не знаю, благодаря какому чуду. Когда нас приперли к стенке, я заявил, что закон, мол, прямо говорит: редактор, уезжающий за границу без ведома и пр. А если Месхи и уехал бы за границу, то он уехал бы с ведома, ибо уже заявил, мол, об отъезде. Этот крючок подействовал, но слабо. Максимович [Максимович — цензор.] все-таки взял с меня слово, что я напишу Месхи не уезжать до разрешения вопроса.
Вообще здесь все висит на волосинке, и мне страшно думать об этом, потому что хорошо и благородно провалиться торжественно. Но провалиться мелодраматично, из-за глупости — просто стыдно и гнусно. А это, кажется, ожидает нас, если не спасет сила небесная в форме Максимовича и Прибыля. Поди и рассчитывай на такие силы, которые, в сущности, только и хотят что прихлопнуть этих «мальчишек-дураков»...
Вообще говоря, здесь дела плохи. Иванов все еще не оправился после вашего отъезда. Он один, он скучает, он томится и, несмотря на редкие ухаживания, не может примириться с мыслью, что ему не тепло уже. Так как мне не только не тепло, но даже очень холодно, я переехал к нему и мы греем друг друга взаимно...
Принесли корректуру, принесли газеты с требованием «оригинала» для завтрашнего утра. Прощай, письмо твое застанет меня здесь, в Тифлисе. Кланяйся Боте, ей я сегодня не пишу, потому что ей я многое, очень многое хочу написать. Кланяйся всем, кто меня помнит.
Олико — Нико
Август, 1873 г. Цюрих.
Наконец-то пришло твое письмо, а то я ужасно была зла на тебя, хотя и сама давно не писала вследствие той же причины: здесь такая жара, что я совершенно разленилась даже на занятия. Впрочем, теперь стало прохладнее и занятия пошли лучше. Кроме того, в настоящее время здесь Петлэ и Петриев. Первый занимается с нами физикой, второй — химией. И оба довольно порядочно. Читают нам лекции каждый день по два часа.
С Петлэ мы сошлись довольно близко. Да нельзя не сойтись с ним при его простоте и веселости. Его характер как-то подходит под наш. А Петриев — не то: серьезный, положительный, никогда лишнего слова не скажет. Мне нравится как тот, так и другой.
Месхи был при мне в Цюрихе неделю, но я его видела только два раза: раз сама пошла к нему, другой раз он пришел прощаться с нами. А «Дроеба» переродилаеь-таки порядком. Мы дали это заметить Месхи, что ему не совсем понравилось, кажется. Один твой фельетон привел меня в совершенный восторг. Я целый день была особенно весела, прочитавши его. Не помню заглавия, ты там пишешь и о цензуре, и о шахе, и о всякой всячине. Прелесть, как хорошо: живо, остро, легко, весело... Точно таким представлялся мне фельетон в голове, когда я иногда задумывалась об том, каким должен быть хороший фельетон.
На днях был здесь Тарханов, но никто его не видел, кроме Нацурки, у которой он был 10 минут и заявил, что не может, к сожалению, видеть никого из нас, ибо он в 6 часов (а это было в 3 часа) уезжает в Люцерн и боится заболтаться с нами. Неправда ли, красиво? Не могу переварить: грузину приехать в Цюрих и не побывать у грузин, хоть просто из любопытства! И знаешь, чего он торопился в Люцерн? Проводить Лорис-Меликову... А какие патетические речи говорил нам в Тифлисе?! Впрочем, мало ли что способны сделать черные очи...
Олимпиада здорова, грудь вовсе перестала болеть. Да в Давосе такой воздух, что нельзя не поправиться. На зиму неизвестно, куда она поедет. Цюрих ей доктор запретил.
Некоторое время я с ней была в Давосе и познакомилась там с семейством Герцен. Зашла речь о тебе. М-м Герцен и говорит: «У нас Николадзе бывал часто, но я его близко не знаю, потому что он на барынь не обращает никакого внимания: никогда ни с кем из нас не говорил. Раз как-то заговорил с одной и то выругал ее». Как она это сказала, я, сколько ни крепилась, не выдержала и прыснула на всю столовую. Так что она даже растерялась. Если б ты сказал, что есть на свете люди, которые такого мнения о тебе, я бы не поверила. Но тут я слышала сама! Вот, значит, какие бывают метаморфозы...
Иван Месхи на днях уехал из Цюриха в какой-то город. Его послал Бример лечиться, и он там пробудет месяца два. А к нам прибавилось три грузина; Элиозов, Мортуладзе и Цицианов. Первый — болтун, второй — бессловесен, третий — добрый малый. Вот все, что о них могу сказать пока.
Справедливы или опрометчивы суждения Олико о людях — это сейчас не главное. Главное, что она, то ли по молодости, то ли почему-либо другому, пренебрегает всяческими авторитетами. Иван Рамазович Тархнишвили уже тогда был довольно видным в России ученым. Кажется, совсем недавно, в Тифлисе, на его лекциях по физиологии у Олико захватывало дух. И разве не его красноречию и популяризаторскому дару обязана она выбором своей профессии? Но вот профессор приезжает в Цюрих и не заходит к своим юным землячкам. Все. Он пригвожден к позорному столбу!
Тем более, что тут же рядом другие ученые-земляки ведут себя совсем по-иному. Не как-нибудь, между делом, а специально приезжают в Цюрих Василий Петриашвили и Петрэ Меликишвили (Петрэ за то, что он не выговаривает «р», прозван Петлэ!). Оба выпускники и научные работники Одесского университета. Петриашвилн в то время — тридцать один год. Меликишвили — двадцать три. Оба химики, они договариваются между собой разделить предметы и занимаются с угельцами подготовкой по химии и физике. Со временем великий Менделеев назовет профессора Меликишвили «укрепителем» и активным поборником его периодической системы. Со временем профессор Меликишвили станет первым ректором Тбилисского университета. А профессор Петриашвили — первым выборным ректором Одесского университета.
Новые же, появившиеся в Цюрихе Александры — Александр Элиозишвили («болтун») и Александр Цицианов («добрый малый»!) — со временем станут в ряды народническо-революционного движения и оба погибнут за свободу и счастье людей как герои.
Нико —Олико
Сентябрь, 1873 г. Тифлис.
...Знаешь, сколько я хохотал по поводу слов г-жи Герцен обо мне и, в особенности, по поводу твоего смеха об этом предмете... Ах ты, Оля моя глупая! Разве трудно поверить, что человек, охотно и горячо занимавшийся своим предметом и, притом, учением, действительно способен был не видеть ничего, кроме учения? Но, кажется, я уже говорил тебе, что, принимаясь за учение, я поставил себе правилом не давать разгуляться моей личной жизни до тех пор, пока не стану солидно на ноги, и что годы целые был верен этому правилу. Это мне помогло в двух отношениях: во-первых, дало возможность владеть собой, как машиной, и, во-вторых, сохранило во мне свежесть умственных сил и чувств. При других, более благоприятных, обстоятельствах я мог бы воспользоваться этим для приобретения сколько-нибудь солидных познаний и для приготовления к возможно правильной деятельности. К сожалению, я не сделал ни одного, ни другого по многим обстоятельствам. Между прочим, и потому, что меня невольно втянули в мелкие, жалкие дрязги и делишки, которые отняли очень много времени и сил. Но что было, того не исправишь. Лишь бы вы не повторили моей ошибки и моих бестолковых брожений.
Ты пишешь о нашей якобы литературе. Мне очень жаль, что ты находишь, будто «Дроеба» изменилась к лучшему. Перемена так слаба, так ничтожна, что ее могла заметить только ты, вооруженная приятельски настроенным в мою пользу микроскопом.
Я думаю о более серьезных преобразованиях. Но, во-первых, желание наверстать «Кребули» и, во-вторых, необходимость вышколить Кирилла в качестве редактора «Дроеба» заставили меня передать эту газету в его распоряжение. Вот уже третий или четвертый номер, как он «учится составлять газету». Не осуди строго эти ученические попытки. Для нас сейчас важнее приготовить одним человеком больше для литературы, чем издать пять-шесть дельных или блестящих номеров и затем погрузить «Дроеба» в мрак посредственности. Точно так для нас важно было выпустить хоть какие ни на есть книжки «Кребули» к сроку, чем составить лишь два-три номера действительно порядочного содержания. Мы принуждены брать количеством, не останавливаясь на качестве. Зато с будущего года будет легче издавать действительно сносно и «Дроеба» и «Кребули».
С «Кребули» мы возились убийственно много вследствие материальных затруднений, но как бы то ни было, а завтра, 1 сентября, готовы будут №№ 5, 6, 7 и 8. Девятая книжка выйдет в сентябре, а может, и десятая.
Если б ты знала, как каторжно неустанно работал Г. Церетели, как он помог нам в этом критическом для нашего дела затруднении! Я просто без ума от него. Что за энергия труда в этом человеке, какое умение понимать быстро, чувствовать верно и действовать, не жалея своих сил. И как приятно работать с ним, уставать и отдыхать в его злых насмешках надо мной и над собой! Дай бог всякому моему другу иметь такого товарища. Работа с ним— просто наслаждение...
О Г. ЦЕРЕТЕЛИ
...Впервые мне пришлось видеть Г. Е, Церетели давно, очень давно, в 1866 году. Я учился в пансионе Кипиани, а он был совсем еще юным учителем. Что он преподавал нам — не помню. Его личность слишком была оригинальна, и она заслоняла перед нами тот предмет, который он читал. Вся фигура его дышала юношеской свежестью и поэтической мечтательностью.
Он не был вовсе похож на других учителей-ремесленников. Мы знали, что он литератор, мы знали и то, что он принимает горячее участие в грузинских любительских спектаклях. И литература, и театр кружили наши детские головы, и мы днем и ночью мечтали устроить спектакль или завести газету. Под влиянием той атмосферы, которой мы дышали в то время в пансионе, нам удалось и то и другое. В спальне, наскоро, мы сколотили сцену и тайком от воспитателей устраивали русские и грузинские спектакли, А затем мы набрались смелости издавать грузинскую газету. Во всех этих наших затеях немалую роль играл заразительный пример нашего учителя Г. Е. Церетели. Особенное внимание он обратил на нашу газету и одобрительными отзывами поощрял наши литературные дебюты.
Выйдя в 1867 году из пансиона и поступив в гимназию, я на некоторое время потерял из виду своего учителя. Но ненадолго. В 1871 году стал издаваться под его редакцией грузинский журнал «Кребули». Журнал сразу занял в грузинской печати первенствующее место.
Г. М. Туманов «Характеристики и воспоминания». Тифлис. 1913 год.
Что же могли значить в последнем письме Нико несколько раздумных критических слов о себе? Что он имел в виду, говоря о мелких дрязгах и делишках, о своих ошибках и бестолковых брожениях и, главное, о несостоявшейся «возможно, правильной деятельности»? Таким чужим звуком выглядят эти признания на фоне довольно бодро идущих журналистских дел!.. И все же слова вырвались.
Пытаюсь представить себе, по какому руслу направлялась его мысль. Сначала сообщение Олико о визите в Давосе к супруге Герцена, ее смешливая реакция на якобы суровый аскетический образ жизни юного Николадзе. Нико вспомнил, что в те годы он действительно был таков, никаких женских чар, никаких любезностей. Все подчинено одному — побольше узнать, накопить, чтоб не оставаться неучем и верхоглядом.
В Петербурге, несмотря на то, что он не успел окончить даже первый курс, общение с кругом Чернышевского затянуло его в активную журналистскую деятельность. В свои девятнадцать—двадцать лет он стал чуть ли не ведущим сотрудником одной из петербургских газет. Правда, газеты бедненькой, называемой, как бы в насмешку, «Народным богатством». Здесь ему приходилось заниматься набором, корректорским делом, экспедицией и, разумеется, главным образом, писанием статей. Но чем больше он писал, тем острее сознавал, что ему не хватает знаний и глубины. И вот вырвался, наконец, осенью 1864 года за границу, в Швейцарию и Париж. Вырвался, как пущенная из лука стрела. Но если уж возник образ стрелы, то следует тут же сказать, что стрела эта угодила прямо в яблоко раздора.
То был самый гребень идейных перевальных битв. Битвы велись между деятелями сороковых годов и шестидесятниками, между великим столпом русской демократии Герценом и молодой эмиграцией, проповедующей революционные идеи Чернышевского. Словом, между тем, что еще представляло большую силу, и тем новым, что мощным потоком ринулось на общественную арену. Ну, можно ли было остаться тут в стороне?
Сначала Нико сотрудничал с Герценом и Огаревым в их «Колоколе», что для безусого, молодого журналиста — большая честь. Но вот в мае 1865 года в связи со смертью царского наследника Герцен публикует в своем издании «Письмо императору Александру Второму». И Нико резко отворачивается от «Колокола». Он не может понять, как такой человек, как Герцен, позволяет себе иллюзии насчет царя. Тогда этим письмом Герцена была взбудоражена вся молодая эмиграция. Нико написал Огареву, выразил свое недоумение, раскритиковал вообще весь «Колокол», предъявляя к нему наряду со справедливыми претензиями и пристрастные. Но надо сказать, что другие представители молодой эмиграции набросились на «Колокол» еще злей!..
С особой любовью думал в эти дни Нико о своем дорогом учителе Николае Гавриловиче Чернышевском, имя которого было в России строжайше запрещено. Как же так, — рассуждал он, — Герцен позволяет себе вести либеральные разговоры с царем, и царская цензура уже идет на издание в России его книги «Кто виноват?». А Чернышевский томится на каторге в Вилюйске! Где же солидарность? Где революционность?
В группе молодых эмигрантов особо острыми нападками на Герцена отличается Александр Серно-Соловьевич, брат Николая Серно-Соловьевича, отправленного в ссылку вместе с Чернышевским. Молодежь создает «Чернышевский фонд», и Нико отдает в этот фонд весь сбор от своей брошюры «Молодое поколение». В Женеве при активном участии Нико выходят произведения ссыльного писателя. Чернышевцы действуют, чернышевцы торжествуют.
Однако выясняется, что и внутри лагеря чернышевцев не все единодушно. Если Серно весь огонь, зовет на баррикады, то Нико больше склонен отстаивать в учении Чернышевского идею постепенности и последовательности в подготовке народа к революции. Между Александром Серно и Нико Николадзе в их спорах начинают образовываться глубокие расхождения. Тем временем Нико привлекают взгляды и личность Льва Мечникова. Эмигрант Лев Мечников — брат знаменитого биолога Ильи Мечникова, друг Гарибальди и участник его битв, литератор, пишущий в легальных изданиях под псевдонимом Леона Бранди, Эмиля Денегри. Вместе они задумывают издавать в Женеве журнал «Современность».
Наша «Современность», — декларируют они в одной из журнальных статей, — старается быть обозрением и отражением текущей жизни и представлять читателям картину не своих стремлений и идеалов, а действительное положение вещей и ход общественных дел в России и Европе.
Желание быть объективным, стремление занять позиции беспристрастных отражателей жизни!.. Возможно ли это? Не наивно ли уверять себя и других в этом, когда идет борьба? Конечно, наивно, потому что и в «Современности», как и в любом печатном органе, была своя направленность, своя тенденция, о которой шла речь выше. У Александра Серно-Соловьевича она вызывала протест. А надо сказать, что к тому времени Серно уже был человеком душевно неуравновешенным, истерзанным личными невзгодами и нуждой. И лишь в редкие просветы между вспышками болезни продолжал творить.
А тут еще одна катастрофа, повергшая Серно в истерию, — измена одного из его товарищей по эмиграции, соратника по перу Василия Кельсиева, который сам сдался в руки царских властей, стал ренегатом и написал нашумевшую тогда в России «Исповедь». Теперь Серно во всех своих прежних друзьях чудились ренегаты и изменники. Например, Нико — не эмигрант, не беглец, молодой человек, живущий за границей с намерением вернуться на родину, бесконечно пишущий, пишущий и пишущий... Кто он таков? Почему вмешивается в их «распроклятую жизнь?!» В самом деле, почему?
В высшей степени нелепый вопрос! Ввязывается потому, что публицист, потому, что не может и не хочет иначе себя вести, потому, что считает себя борцом, чернышевцем и берет от своего учителя то, что, по его мнению, наиболее приемлемо и рационально.
Но у Николадзе есть и своя, сугубо личная причина, по которой он здесь. Ему надо подготовиться, сдать в Цюрихе экзамены на доктора прав, получить диплом. И он отлучается время от времени в свой университет.
— Почему отлучается? — кричит больной Серно. — Это неспроста! Может быть, хочет всех нас, как Кельсиев, продать?!
Нико Николадзе пишет диссертацию и по-настоящему ею увлечен. Тема «О разоружении и его последствиях». Вопрос настолько злободневный для тех лет, что швейцарские издатели выпускают работу Николадзе отдельной брошюрой на французском языке. Увлечен он и новыми своими знакомствами. Лев Мечников знакомит его с Гарибальди и Мадзини, приехавшими в Женеву на конгресс Лиги Мира и Свободы, с местными пацифистами. Все это так интересно, так поучительно!.. Нет, не зарекался вариться в одном лишь эмигрантском котле этот жадно вбирающий в себя все дуновения Европы «русский грузин»!..
Но иначе истолковывает все это впавший в сильную депрессию Александр Серно и разражается в адрес Нико ужасной, неприличной бранью в брошюре «Миколка-публицист». «Миколка» — это он, Нико...
— Кому в Женеве не известно, — пишет Серно, — что живет здесь бог знает зачем и на какие средства Миколка-публицист?..
Журнал «Современность», считает Серно, издание 3-го отделения царской России, а Николадзе — «собиратель» эмигрантов.
«Все перепробовал Миколка, — пишет Серно. — Не с кого больше деньгу тащить. Так за публицистику теперь принялся. Только не дадут денег Миколке за листок, глуп больно парень».
Именно в эти дни Нико Николадзе вернулся из Цюриха в Женеву со степенью доктора прав. Вернулся торжествующий, праздничный. Лев Мечников подал ему брошюру А. Серно... Не в правилах пишущих людей того времени было отмалчиваться на подобную брань. Но здесь все знали: человек невменяем, написал бред. И Нико обошел «Миколку-публициста» полным молчанием.
Думал ли он в то время о том, что печатное слово есть печатное слово, что позже его подхватят «Московские ведомости» черносотенца Каткова и будет оно гулять по свету и смущать кое-каких литературных исследователей даже в наши дни?..
Может быть, именно эти «дрязги» и «брожения» всплыли в его памяти, когда, сидя в редакции «Дроеба» в благодушнейшем состоянии духа, Нико отвечал на письмо Олико. Написал о годах своей учебы в Швейцарии, вспомнил бурные схватки «молодой эмиграции», и потянулась нить...
Но что он имел в виду, говоря о «правильной деятельности»? Жалел ли он о том, что ввязывался, спорил, может быть, ошибался, но вообще, бродил, как молодое вино? Или следовало вести себя тихо, как это делали некоторые другие его земляки, тоже попадавшие в среду русской эмиграции: они только присматривались, помалкивали и наматывали себе на ус: как, мол, там «у них»?
Олико —Нико
Сентябрь, 1873 г. Цюрих.
Знаешь, иной раз я прочту целую книгу, и она не возбуждает во мне столько мыслей, как какая-нибудь фраза в твоем письме. Вот хотя бы, например, та, что ты одно время совсем не жил личной жизнью, предавался душой и телом ученью и работе над собой и таким образом достиг умения управлять собой, как машиной. Сколько я передумала над этим! Тем более, что это как бы отголосок на мою мысль, которая давно-давно возилась у меня в башке. Мне кажется, что о человеке можно сказать, что он с характером только в таком случае, если он умеет править собой, как машиной. Сколько раз пробовала я это над собой!.. Иной раз удавалось, зато в другой раз, в самую критическую минуту, спасуешь. Вот когда бывает скверно, гадко на душе. Сквернее этой минуты я не знаю.
Олимпиада здорова. Она теперь уже в Цюрихе. Самое главное, что она уже убедилась, что у нее ничего другого нет, кроме нервной болезни. Суслова уверила ее.
Какая тишина в Цюрихе! Положительно гробовая. Прежде, бывало, войдешь в библиотеку — шум, гам. Как хочешь, а жизнь была. А теперь сидят несколько человек, разговаривают тихо, подавленно. Никак не ожидала, что этот треклятый декрет будет иметь такое последствие. Русские все разъехались, как барыни, так и мужчины. Суслову не пускают обратно в Россию. Она, несчастная, в отчаянии, хандрит. Из Мюнхена ей пришлось уехать потому, что студенты устроили скандал: как только она вошла на лекцию, они все вышли из класса. Судя по некоторым ее поступкам, она, видимо, молодец-барыня!
Но зато м-м Герцен, какая она фарисейка! Говорит с тобой — глаза к небу. Такими мягкими словами. И в каждом этом мягком словце она очень жестко дает тебе почувствовать, что она избранная Герценом женщина. И корчит она из себя передовую женщину. А на самом деле просто-напросто аристократка со стрижеными волосами.
О НАДЕЖДЕ СУСЛОВОЙ
Отец Аполлинарии и Надежды Сусловых был крепостным блистательного графа Шереметьева. Умный и грамотный крестьянин, Суслов сколотил вебе некоторое состояние и откупился у своего помещика. Тот же взял Прокофия к себе на службу управляющим. Семья Сусловых поселилась в Петербурге. Здесь девочки стали учиться. Старшая, Аполлинария, посещала публичные лекции в Петербургском университете, чтения-концерты, на которых, в частности, выступал и Федор Михайлович Достоевский, недавно вернувшийся из ссылки и читавший свои «Записки из Мертвого дома». Аполлинария влюбилась в Достоевского. Они стали близки. Их трудная, своеобразная любовь длилась несколько лет и оставила след в жизни писателя.
Тем временем младшая Суслова, Надежда, обладавшая характером уравновешенным и цельным, поступила в Медико-хирургическую академию, а когда вышло распоряжение об удалении из академии женщин, уехала в Цюрих и там окончила университет. Она была членом Интернационала и состояла под надзором полиции. В августе 1873 года ей был воспрещен въезд в Россию.
ЕЩЕ О НАДЕЖДЕ СУСЛОВОЙ
Несомненный интерес представляет обмен письмами между Достоевским и младшей сестрой Аполлинарии, Надеждой Прокофьевной Сусловой, весной 1865 года, когда эта девушка училась в Цюрихе на медицинском факультете... Она была революционеркой, и по встречам и беседам с нею Достоевский вынес ряд не всегда обычных для него положительных впечатлений о новом поколении русской молодежи — «шестидесятников». Это имело большое значение и в его дальнейшем, стремлении понять и даже оправдать передовых людей этого круга. Вот почему эпизод его краткой, но очень серьезной и чистой дружбы с этой выдающейся представительницей русской медицины (она была первой женщиной-врачом в России) разъясняет многое в его позднейших политических позициях и высказываниях, освещая его постоянное пристальное внимание и глубокий интерес к таким фигурам, как Каракозов или Вера Засулич.
...Аполлинарии Сусловой Достоевский противопоставляет ее младшую сестру: «Я в каждую тяжелую минуту к Вам приезжал отдохнуть душой. Вы видели меня в самые искренние мои мгновения. Вы мне, как молодое, новое, дороги, кроме того, что я люблю Вас, как самую любимую сестру».
Он подчеркивает ее основное отличие от Полины: «У Вас есть сердце, вы не собьетесь!»
Жизнь это вскоре доказала. «На днях я прочел в газетах, — сообщает Достоевский своей племяннице Соне Ивановой 31 января 1867 года, — что прежний друг мой Надежда Суслова выдержала в Цюрихском университете экзамен на доктора медицины и блистательно защитила свою диссертацию. Это еще очень молодая девушка — редкая личность, благородная, честная, высокая!»
Л. Гроссман Из серии «Жизнь замечательных людей», Достоевский, 1962 год.
Общение с таким намного старшим по возрасту человеком (Надежде Сусловой шел тогда 31 год) несомненно произвело на Олико глубокое впечатление, распространяться о котором в письме она не могла. Но даже по немногим скупым строчкам можно представить себе участие Сусловой в тревогах грузинских девушек по поводу болезни Олимпиады и ответное тепло к человеку, ставшему теперь перед такой угрозой — угрозой потери родины. Эту тоску Олико понимала. Мужеству Сусловой она завидовала.
О чем говорили они друг с другом в этом внезапно опустевшем Цюрихе? Наверняка не о том, какой длины сейчас носят платья в Париже и какие в моде духи. О чем же тогда? И о чем думала Олико после этих встреч с Сусловой, мне кажется, можно предположить. Может быть, о том, что женская независимость бывает мнимой и подлинной. Думала о стриженых аристократках, играющих в передовых, и о крестьянских дочерях, исполненных подлинного аристократизма духа. Какая же почва рождает независимость женщин?
Много громких слов — справедливых и несправедливых, умных и запальчивых — успела услышать Олико на собраниях, которые сопровождали «треклятый декрет». Много увидела суеты. Но вот перед ней Суслова, поставившая перед собой цель и тихо, без фраз, пришедшая к ней. У этой женщины есть все основания считать себя личностью. Она полезный член общества, она приобрела знания, интеллигентную профессию, умение свободно мыслить. И ее не будет приковывать к себе ни родительское наследство, ни супружеский карман.
А как сложится жизнь у нее, у Олико?
Нико—Олико
Сентябрь, 1873 г. Париж.
Для меня крайне интересно знать твое мнение о нашей полемике с В. Гогоберидзе. Имей в виду, что это самый серьезный практический вопрос, какой только попадался нам на обсуждение, и что сам по себе предмет, т. е. банк, имеет громадное значение для будущности нашего общества. Помня это, произнеси, ради бога, свое мнение о том, как, по-твоему, следовало поступить, как нужно было вести полемику, и в чем наши промахи...
Знаешь, я часто, когда пишу ту или иную статью, думаю, как это понравится Оле? Что скажет она? Что вынесет? Мне кажется тогда, что я пишу для того, чтобы приготовить тебе «комнату» и думаю — останется ли доволен хозяин работой, когда войдет в свои владения? Иногда мне хочется «наставлять» тебя, т. е. вернее, сгруппировать для тебя исходные точки. Так было со статьей «Ахали ахалгазрдоба», писанной как будто только для тебя. И я очень рад, что она произвела на тебя такое впечатление, о котором ты пишешь мне. Но большей частью я чужд и этой цели, а только стараюсь (или думаю, что стараюсь) приготовить для тебя все, что может понадобиться. И с особым удовольствием, с наслаждением даже, отношусь к этой роли поваренка, чистящего картофель и бобы, из которых маэстро-повар приготовит обед. Представь, я эту роль полюбил до такой степени, что иной раз меня серьезно подмывает написать тебе «рапорты» обо всем случившемся, точно перед начальством. И самое большое удовольствие, какое я могу себе вообразить в этом отношении, — это поощрение, начальническое «спасибо» с твоей стороны. Впрочем, делай мне и выговоры, это тоже в порядке дел и в интересах усердной службы...
Олико — Нико
Сентябрь, 1873 г, Цюрих.
Какая суматоха поднялась у нас, когда мы прочли первую статью Гогоберидзе. Положительно скандальная его статья, будто ее писал гимназист. Один слог чего стоит!.. Так и выразилась в нем лакейская его душа. Особенно это бросается в глаза, когда после его статьи начинаешь читать твою — очень уж резкий переход от его слога к твоему, А как ты его разрисовал? Положительно нельзя читать, не состроив гримасу, например, то место, где говорится о его тасканиях по передним. Вот такую полемику я понимаю: унизил человека, выставил все его гадости в очень даже резких словах. И все же ты тут не ругаешься, как в какой-то статье о Пурцеладзе. Потому-то мне и кажется, что статья о Гогоберидзе производит большее впечатление.
Но вот чего я не понимаю: неужели нельзя говорить об деле (хоть и об банке), чтоб не вмешивать личностей? Говорили о банке, представили весь его вред. Ну, и отлично. А тут вдруг, начинается полемика из-за личностей. Я понимаю полемику исключительно о банке, что, мол, такой и такой-то надо установить банк. Ведь нужно, чтоб общество решалось на что-то потому, что сообразило, что это лучше, практичнее, чем другое, а вовсе не потому, что это предложил один человек, а то — другой. Я понимаю, что нужно показать обществу всю гадость влиятельного человека именно, как ты нарисовал Гогоберидзе. Только не теперь нужно это, когда дело идет о банке.
Опять я повторяю: разве не так надо воспитывать общество, чтоб оно принимало то или другое решение вследствие обсуждения, обдумывания, а не вследствие того, что это нравится одному, а то — другому? Если нет, если таким образом нельзя вести дело, то твоя статья отличная и уместная.
Нико —Олико
Октябрь, 1873 г. Тифлис.
Твое замечание о том, почему мы задеваем личности, а не ограничиваемся исключительно технической стороной дела, совпало с коньком наших противников. Начавши в статье Кипиани с прямого нападения на личность Ак. Церетели и мою и продолжив в статье В. Гогоберидзе нападением на мою личную честность, они кричат теперь, что мы занимаемся личностями. Но для нас было необходимо поступить так, а не иначе. Почему — это ты увидишь из статьи в сегодняшнем «Дроеба» (№ 34). Я был вынужден высказать в ней часть того, что я хочу изобразить в ряде «Писем об умении вести общественные дела», которые появятся со временем в «Дроеба». Но пришлось отрезать часть этих писем, чтобы зажать теперь же рот нашим «добрым недругам».
Я знаю, тебя возмутит в сегодняшней статье моя выходка против Ник. Гогоберидзе и Мамия Гуриели (пораненного в пьянстве). Но, милая Оля, не забудь, что мы живем в обществе чуть ли не первобытных людей и что против нас употребляют не только такое невинное оружие, но и бог весть какие средства.
Эти люди решили извести нас не мытьем, так катаньем. И это не со вчерашнего дня. Нет клеветы, оскорбления, гадости и подлости, которую бы они не распространяли про нас, прикрываясь либерализмом и притворяясь «молодежью». Все, что говорится в статье Пурцеладзе (я послал ее тебе), все это только цветочки в сравнении с тем, что кричат про нас эти дураки, которые к тому же, ей-богу, компрометируют наши общественные дела и будущую роль нашей молодежи.
Вот почему необходимо употреблять против них личные нападки, не унижаясь, разумеется, до употребления тех грязных средств, которыми они пользуются, а выставляя, при случае, их бездарность, промахи, отсутствие порядочной цели, непомерное с их стороны уважение интересов сильных мира сего, т. е. все те качества, которые касаются общественной стороны их действий...
С этой точки зрения прошу тебя рассмотреть и мою статью «О моей личности» (№ 7, «Кребули»). Это будто написано в ответ Пурцеладзе, но цель статьи зажать рот нашим противникам, употребляющим пурцеладзевские приемы в устной пропаганде против нас.
Пойми, что, не имея возможности сражаться аргументами или просто писательством, эти господа употребляли против нас средства уронить нас в глазах публики тем, что мы не умеем правильно писать по-грузински. Мы победоносно отразили это обвинение года три тому назад, и с тех пор об этом перестали писать и говорить. Теперь они ухватились за последнее средство: уронить целое направление, роняя в глазах публики личную честь писателей этого направления. Это чрезвычайно ловко, но зато и опасно для нас. Мы, кажется мне, не имеем права горделиво презирать эти нападения и наслаждаться их жалкой глупостью, потому что нападения эти рушатся на наше направление.
Я мог улыбаться и хохотать, когда Серно-Соловьевич выдавал меня за шпиона и обличал меня в захвате 80 франков из эмигрантской кассы. Я мог точно так же смеяться, когда «Московские ведомости» печатали про меня, что я вор и грабитель. Это не трогало меня и не вредило решительно никому. Но когда то же самое говорится и высказывается у нас, тут обвинение через мою голову бьет в наше направление, которое я не имею права компрометировать собственной личностью. Жаль, что нежданно-негаданно я попал в такое положение, когда должен относиться к собственной личности, как к ширме, сквозь которую бьют дорогие вещи.
Наверно, когда-нибудь, лет через сто, наши потомки тоже будут с трудом разбираться в сегодняшних наших спорах по практическим вопросам дня. Споры были всегда. Без этого люди не могут и сегодня. Выступай устно или в прессе, вноси свои предложения в ту или иную проблему, обсуждай вопросы, которые выносятся на обсуждение! Но если решение принято — будь любезен подчиниться ему. Это держит в состоянии порядка всю многогранную общественную деятельность, которую ведет сегодня наше общество.
Тогда же все было иначе. Тогда общественная мысль делала свои первые шаги по пути переустройства общества в пользу народа. И сколько тут было мнений, сколько суждений!
Для того, чтобы понять полемику, разгоревшуюся в тбилисской печати вокруг устава банков, надо представить себе деятельность кредитных учреждений того времени. Крупные землевладельцы и либералы стояли за акционерные банки, а просветители-демократы за банки с долгосрочными кредитами. По мнению последних, если внести в устав соответствующую статью, это могло бы дать крестьянам возможность приобрести заложенные помещиками земли и, следовательно, улучшить свое положение. Отсюда и споры вокруг устава и, в частности, устава Кутаисского банка.
В чем же провинился Виссарион Гогоберидзе? Находясь в лагере демократов, «дроебовцев», он, по своей инициативе, составил устав Кутаисского банка. Дроебовцы обсудили его и сочли негодным для проведения своих позиций. Гогоберидзе было сказано, чтоб он не торопился и не предлагал кутаисцам этот устав. Сейчас бы мы выразились в том смысле, что Гогоберидзе было предложено выполнять партийное решение. Но он не стал этого делать, поехал в Кутаиси и предложил помещикам свой устав. Вот и все.
Но не поведение Гогоберидзе интересует нас в данном случае. Интересно то, что столь умудренный борьбой и жизнью публицист посвящаег девочку, недавнюю институтку, во все эти перипетии. Понять их ей явно не под силу. Предположим, что она не понимает каких-либо частностей. Доходит ли до нее общий смысл? Ведь при всей ее неопытности и наивности, у нее уже вырабатывается свой взгляд на вещи. И пусть она узнает жизнь, пусть не думает, что все так просто, прямо и открыто можно решать в обществе людей, как это, наверно, хотелось бы каждому. Так, наверное, рассуждал Нико.
С другой стороны, не втягивает ли он ее в те самые мелкие дрязги и делишки, в которые то и дело погружается сам? А как же тогда жить? В воздушном замке? Отдаться только наукам? Но в таком случае выработается ли из девушки боец? А ему хочется именно этого, именно того, чтоб она была бойцом.
Многие ли из мужчин способны были на это в те годы? И многие ли из девиц, удостоенных такой мужской дружбы, способны были не таять, польщенные лестным вниманием, и не растекаться лишь в приятных похвалах?
О, как необходимы были Нико с его богатым, сложным и, может быть, чуть больше, чем нужно, уверенным в себе характером эти нелицеприятные, прямые слова друга!..
Олико — Нико
Ноябрь, 1873 г. Цюрих.
Ты пишешь, что в 7-й книге «Кребули» будет помещена статья, как бы в ответ Пурцеладзе. Этой статьи я жду с нетерпением после того, как прочла «Мнатоби». Ведь не отвечать Пурцеладзе нельзя. Это вышло бы, как у нас говорит, «курис цакруэба» (замалчиванием). А как ответить? Вот мне и кажется, что если где нельзя вмешивать колкостей и ругаться, так именно в этом ответе. А то, право, будет институтская перебранка. Мне кажется унижением ругаться с Пурцеладзе после его статьи. Если б я отвечала Пурцеладзе, я ни разу не задела бы его личности. Надо показать обществу всю бесполезность, даже вредность деяний Пурцеладзе и компании и таким образом защитить ваше дело.
Вчера получили 5 и 6 книги «Кребули». По правде сказать, скандальные книги. Что же там есть? Полкниги статья Церетели, списанная с «Дроеба», следовательно, уже известная публике, полкниги перевод, затем «Гварта брдзола», которое почти никто, я думаю, не читает. Остаются две твои статьи. Сначала я думала, что это один номер, и утешалась. А когда посмотрела, что это две книги, — в ужас пришла! Конечно, вас обвинять нельзя, вас всего двое. Что вы могли поделать? Но во всяком случае факт очень грустный, что «Кребули» в таком виде. Право, может быть, лучше было, если б вы выпустили мало, но хороших номеров...
Теперь твоя критика об «Глахис наамбоби» Сказав два слова в очень мягких тонах, что это из слабых произведений Чавчавадзе, ты начал перечислять все его достоинства. Как будто боялся глубже рассмотреть новое произведение, чтоб не раскрыть недостатки. Убеждена, что если бы это же самое написал Пурцеладзе, тон твоей критики был бы другой. Не понимаю, для чего это? Разве так нужно? Для кого же? Для автора? Я думаю, наоборот, чем больше автору откроешь недостатки, тем лучше.
Я совершенно согласна с тобой, что все достоинства, которые ты приписываешь Чавчавадзе, он заслужил. Но мне кажется, что совершенно не тут надо было их перечислять, вовсе не в разборе «Глахис наамбоби». Одним словом, прочитавши твою статью, спрашиваешь: «Да что же он сказал о «Глахис наамбоби»? «Что он об этом думает?». Как будто тебя спросили: «Что вы думаете о «Глахис наамбоби», а ты отвечаешь: «Вот Чавчавадзе написал «Кация адамиани?» [«Кация адамиани?» — «Человек ли он?».] ... и так далее. Вот это — прекрасные произведения...»
Ну, довольно об этом. Когда же ты, наконец, получишь деньги и тебе можно будет ехать? Погода такая отвратительная: в 4 часа приходится заниматься при свечке, а от этого еще хуже тоска, всякие мысли лезут в голову... Сегодня и не думала писать тебе: сидела, читала, задумалась о чем-то и стала писать, сама не знаю, каким образом.
Прощай, не о чем больше говорить.
Нико, что же мне делать с Боцией? Ей все скучно и скучно, Я ее занимаю и занимаю: то куклу куплю, то пирожок — ничего не помогает. Наконец, мочи не стало. Приезжай скорее. Авось общими усилиями дело пойдет успешнее?
Нико —Олико
Декабрь, 1873 г. Тифлис.
Милая Оля, сколько лет, сколько зим я не писал тебе и сколько раз все это время хотел писать! Ну и времячко! Черт знает, чего только не было со мной за это время — и тоски и скуки, и дел и уныния, словом, всего. Хуже всего только то, что все это еще не прошло и сегодня так, как вчера. И так будет и завтра, и послезавтра... Знаешь, дорогой дружок, что я формально не в состоянии был написать вам ни единой строчки...
Когда это письмо будет получено тобой, Г. Церетели будет уже в Цюрихе. Следовательно, писать мне о здешних делах, в сущности, нечего. Скажу только несколько слов о том, что было после его отъезда.
Во-первых, Иванов уезжает нз Тифлиса. Дело библиотеки приняло неожиданно благоприятный оборот. Путем неких комбинаций я уплатил Шабурову квартирную плату за прошлые годы и вперед до 1 ноября 1874 года. С мелкими долгами кое-как рассчитались, крупные отсрочили. Иванов уезжает сперва в Питер, а оттуда за границу. Я более рад этому (за него), чем если бы сам получил разрешение уехать отсюда.
Во-вторых, вместо Иванова библиотекой будет управлять один молодой человек, подающий хорошие надежды, — П. Цулукидзе.
В-третьих, В. Гогоберидзе после того, как я недавно, с пьяных глаз, помирился с ним (о, как отвратительно пьян был я тогда), енова начал ухаживать за нами и старается держать себя якобы в одном лагере. Ужас просто, что такое!
В-четвертых, из 42 и 43 номеров «Дроеба» ты увидишь, что в здешнем городском правлении шла речь о выдаче концессии на водопровод и освещение города Тифлиса. Увидя, что гласные были введены в заблуждение преступными действиями городского головы, мы вмешались (по-нашему) в дело, произвели скандал и в три дня одержали решительную победу... Голова сдался на капитуляцию, и я был приглашен к нему совещаться вместе с Арцруни, редактором «Мшака», [«Мшак» — «Работник», газета, издаваемая в Тифлисе на армянском языке.] насчет того, что делать впредь. Такой легкой, бесспорной и важной удачи мы до сих пор еще ни разу не имели, и кредит наших изданий сразу поднялся процентов на 50.
В-пятых, сегодня я получил наконец-то разрешение поехать на несколько дней в Кутаиси. Если меня не вводят в заблуждение, я надеюсь, что в скором времени с меня совсем снимут надзор полиции.
В-шестых, Антон Пурцеладзе (великая ему благодарность) дешевым способом произвел меня в герои и предоставил мне, кроме того, великолепный револьвер американской системы. В ответ на статью «Чем пировнебазе» («О моей личности») явился в типографию и, не говоря худого слова, бац револьвером мне в грудь. Но все это было сделано так глупо, что мне стоило только отмахнуться левой рукой, чтоб отвести выстрел. Кончилось маленькой царапиной пальца и отнятием револьвера с пятью зарядами. Это тоже большая удача, потому что этим гениально хорошо закончилась наша полемика с этим господином.
Год 1874-й
Наступила весна следующего года.
Она застала женскую группу «Угели» в Женеве. В Женеве жил Лев Мечников со своей супругой Ольгой Скарятиной — близкие друзья Нико Николадзе. Их дом и сердца были открыты для молодежи из Грузии. В Женеве была стариннейшая Кальвинская академия, которая именно в этом году реорганизовалась в университет. А в университете преподавал крупный ученый-физиолог Карл Фохт. Это было очень важно для Олико. Женева говорила на французском, что тоже устраивало Олико. Женевцы с гораздо большей симпатией, чем цюрихцы, смотрели на учащихся женщин из России.
Можно было избрать и Париж, но Париж славился дороговизной, а с деньгами творилось что-то невероятное. Их не хватало. Ни у кого не было постоянного источника денег. С завидным легкомыслием умчавшись за границу учиться, вся так называемая «николадзевская группа» уповала только на Нико. У Нико же иссякли все капиталы, тогда как ткибульское дело не двигалось ни на шаг. Словом, в Женеве положение наших девушек было отчаянное. Все вещи в закладе. Все, вплоть до пальто!..
Далее — болезни... Олимпиада все еще чувствовала себя плохо: то говорили — туберкулез, то — нервы. Туберкулез легких обнаружился у Нацурки, у Веры Надеждиной. Слег в больницу Иван Месхи с мучительным нарушением обмена веществ. Ему предложили оставить университет. Все это создавало какой-то тягостный фон жизни.
И все же молодость оставалась молодостью. У всех были какие-то свои радости. Радостно было то, что Георгий Церетели привез из Грузии свою сестру Машико, милую девушку с уравновешенным и мягким характером. А в доме Мечниковых Олико подружилась с дочерью Ольги Ростиславовны Скарятиной, с Надей Скарятиной, которая оказалась таким же страстным биологом, посещала тот же, что и Олико, факультет.
Да, молодость оставалась молодостью. Образовались две пары влюбленных. Георгий Церетели пылал нежнейшими чувствами к Олимпиаде Николадзе и завоевал ее сердце. Сергей Месхи был помолвлен с Кеке Меликишвили. Оба редактора занялись сердечными делами и не очень торопились с возвращением к своим газетам и журналам. Может быть, задерживало их и отсутствие денег на обратную дорогу. Но в общем, в Тбилиси, был Нико, он их вполне заменял.
Однако и Нико был молод. И он стремился к предметам своей любви. Именно к предметам. Неужели он влюблен в обеих, и в Ботю, и в Олико? Ботя не скрывала своей благосклонности к Нико. Так и не начав учиться в Цюрихе, она и в Женеве медлила с поступлением в университет. Олико же, напротив, с первого дня занималась, а по отношению к Нико, как и раньше, держала себя на товарищеской ноге.
Иногда Нико представлял себе мысленно, что он делает выбор — остается только с Ботей, но тут тотчас перед ним возникало лицо Олико, ее живые черные глаза, стремительная походка, острый язычок... Отказаться от Олико? Ни за что! Он гнал от себя все эти бесплодные копания.
В марте, добившись разрешения на выезд в Париж (только при условии не писать!), Нико буквально промчался через Женеву. Промчался, чтоб на всех посмотреть и себя показать, а дальше бежать в парижские банки, конторы, биржи. Надо было во что бы то ни стало найти компаньонов по Ткибули, соблазнить их выгодами угольного бассейна. Других способов добыть деньги на издание газет, на жизнь и учебу целой оравы людей он не видел. Он обещал девочкам приехать на пасху. В Женеве к этому времени намечались республиканские выборы.
В короткие часы пребывания среди своих он веселился, шутил, пылко ухаживал за Ботей, тормошил Олико. Радовался, что отдыхает от большой нагрузки, которую нес последние месяцы в Тбилиси.
Но что с Олико? Она словно спряталась, как улитка, в свой домик. Вот противная девчонка!
Нико — Олико
Март, 1874 г. Париж.
Как тебе не совестно! Не прислала мне письма и дожидаешься, чтоб я первый написал тебе. Если бы ты знала, как я занят и как неспокоен мой мозг, если б ты знала, какое целебное влияние имеют на меня твои письма, убежден, что в понедельник же утром получил бы твое первое письмо. Но почему ты не знаешь всего этого? Почему не догадываешься об этом? Да будет это на твоей совести и да угрызает она день и ночь твое сердце и мозг. И когда ты хохочешь, и когда спишь, и когда, в особенности, думаешь и мечтаешь!.. Надеюсь, что после этого образца анафемирования, показывающего, как близко я знаком с творениями святых отцов церкви, ты исправишься и будешь писать часто.
Вообще мне ужасно не нравится в тебе эта сдержанность по отношению ко мне, какая-то пассивность, которая не соответствует твоему характеру. По отношению ко мне ты постоянно держишься в выжидательном положении. Для того, чтоб говорить со мной душа в душу, чтоб откровенничать и болтать все, что придет в голову, ты ждешь, чтоб я первый начал разговор, переступил границу общепринятых церемоний, сделал бы то, что французы называют «сломать лед»...
Олико — Нико
Март, 1874 г. Женева.
Уж как ты зол, как ты зол на меня! Чувствую, чувствую и приношу тебе свою повинную голову...
Почему я не писала тебе до сих пор? Не хотелось? Ннн-ет! Не о чем было? Ннн-ет. Да, так себе, просто не писала. Вот тебе и объяснение. Довольно с тебя? Надеюсь, да.
Ты пишешь, что тебе там гадко. А тут, ты думаешь, не то же самое? Со всех сторон видишь, что все разочарованы, в отчаянии просто. Мало-помалу, совершенно машинально и сама заражаешься от них... С одной стороны Надеждина, с другой — Нацвалова, с третьей — Олимпиада. Все раскисли и в полной апатии. Надеждина и Нацвалова не видят никакого выхода из своего положения, кроме как пустить себе пулю в лоб. При них я еще бодрюсь, но сегодня они уехали, и мне ужасно скверно на душе...
Ботя тебе писала, как я все отыскиваю сюжет для письма тебе и не нахожу. Правда, я искала вместе с ней сюжет для ее письма, и мы нашли его. Сюжетом была твоя старая знакомая испанка. Хотели, во-первых, спросить, как ты нашел ее, как она нашла тебя и т. д. Впрочем, ты так занят, тебе, верно, не до нее. Да и охоты, я думаю, нет, не правда ли? О, неправда. Ты настолько верен себе, что успел разглядеть, по крайней мере, десятка два испанок. Желаю тебе успеха. Впрочем, поздравляю тебя с успехом.
Ну, опять начинаю завираться. Право, у меня такой хаос в голове, что сама не знаю, о чем пишу. Не правда ли, я будто пьяна? Может быть, и так. Только пьяна я без вина. Отчего это бывает со мной, Нико: когда тебя здесь нет, мне всегда есть о чем поговорить с тобой, а когда приедешь — никогда ни о чем не говорю? Не то, что забываю. Вовсе нет. Я помню, но... не могу.
Фу, как гадко, — подумал ты сейчас и сказал себе: вот трусиха! Должно быть, так. Но не могу я заставить себя говорить обо всем, о чем хочу. Меня считают откровенной, а, в сущности, значит, я скрытная. И, вот, всего этого я, может быть, и не сказала бы в другое время, но сегодня я пьяна, а что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
Ну, надоела я тебе своей болтовней. Прощай, не буду больше писать на этот раз. Если дам себе волю, напишу всякую чушь и, в конце концов, не пошлю тебе. Так лучше остановиться. Точка. Олико.
Нико — Олико
Апрель, 1874 г. Париж.
Убей меня бог, дорогая моя Олико, если я хоть на одну йоту что-нибудь понял из твоего письма! У тебя на душе какая-то кутерьма, и ты не хочешь ни себе отдать отчета в этом, ни рассказать просто и ясно, что тебя тревожит. Это не трусость и не недоверие ко мне — это просто недоверие к себе... Бога ради, рассказывай мне постоянно, часто, полно все твои мысли и ощущения. Будь уверена, что ты никогда не раскаешься в этом, хотя бы потому, что я беззаветно люблю тебя и, что еще важнее, верю в тебя и надеюсь на тебя.
Никак не могу представить себе, что было бы со мной, если бы мне пришлось расстаться с мечтами о тебе, если бы, например, ты изменилась, умерла, изгадилась или отвернулась от меня. Это одно из тех предположений, от которых меня пробирает морозом по коже, и я всегда стараюсь их изгнать из головы. Я, ничего в жизни не трусивший, положительно жалко-мелко трушу этого. Я себя не чувствую вполне свободным, независимым от всего и от всех человекам, связанным лишь с моей целью и готовым ради нее махнуть рукой на все и вся. Ты и Ботя сделали мне громадное благо; вы обе удесятерили мои силы и надежды, вдохнули в меня необычайную струю свежести, сил и энергии, сделали меня лучше, моложе. Но, вместе с тем, вы сделали меня трусливее, чувствительнее, осторожнее. Словом, вы отчасти подчинили меня себе и заставили, кроме моей цели, полюбить и вас. Нехорошо, если вы обе не поддержите меня всеми силами ваших привязанностей.
Итак, я хотел спросить тебя: почему ты ежишься, почему не высказываешься? Долго ли будет длиться твое нравственное «лококинство»? [Лококина — улитка (груз.).] Скоро ли соберешься с силами и скажешь: «Черт возьми, - мне просто хотелось сказать, что...» Поверь, что тебя никто не казнит за это, никто не осмеет...
Олико —Нико
Апрель, 1874 г. Жеиева.
Ха-ха-ха!..
Нико — Олико
Апрель, 1874 г. Париж.
Милейшая Оля, ты жестоко ошиблась с твоим «ха-ха-ха!». Я нисколько не предполагал, что у тебя есть какой-либо секрет и тебе трудно признаться мне в этом. Но я думаю, что у тебя есть много мыслей, ощущений, чувствований и предположений, которые кишат в твоей головке, и ты никак не соберешься поделиться ими. Не знаю, так ли, но расскажу тебе кое-что из своей жизни в Париже и Женеве в 1864-66 годах. Авось тебе покажется это знакомым или аналогичным.
Я выехал из России в 1864 году вполне расстроенный в умственном отношении. Из всего, что я знал прежде, что вычитал в книгах и увидел в жизни, образовалась в голове какая-то странная двойственность: жизнь и явления ее нисколько не оправдывали того взгляда, который установила во мне литература. Я не знал, что думать и как на что смотреть: верить ли со слепотой фетишизма в мертвую букву литературы и не смотреть на противоречивые приговоры жизни? Или примириться с этими приговорами и выбросить из головы литературу, как детский бред? В этом положении я решил забыть все, что вычитал в книгах и видел в жизни, забыть, как сон, и не допускать ни одной аксиомы, пока не проверю ее сам. Постаравшись изгладить из памяти все, чему прежде я верил, я стал учиться с азов, боясь, как огня, всяких авторитетов. И это учение я тянул в одиночестве, ни с кем не делясь своими мыслями. Я убил на эту работу, быть может, лучшие свои годы и силы. И хотя этим путем добыл себе метод точно выяснять явления жизни, но зато упустил громадное количество мелких частных фактов, знание которых обязательно для всякого грамотного человека. Кроме того, я потерял способность двигаться совместно с другими, влиять на других.
В этом положении я страдал каждый раз, когда мне приходилось высказывать кому-либо свою мысль или догадку. Мне все казалось, что, быть может, это не верно, что, вероятно, я ошибаюсь и т. д. Весьма часто развитие мысли много выиграло бы оттого, что я бы ее высказал, что последовало бы возражение, а это дало бы мне новую пищу для дальнейшей умственной работы. Нисколько не сомневаюсь, что эта одиночность умственной работы значительно повредила силе мозгов, хотя и дала умение жить одному и искать опору единственно в самом себе. Но ведь это можно было добыть гораздо дешевле!
Понимаешь ли ты теперь, о чем я тебя прошу? А ты хохочешь, думая, что я подозреваю в тебе какой-либо один секрет, будто твои секреты мне не известны...
Олико — Нико
Апрель, 1874 г. Женева.
Ты представить себе не можешь, дорогой Нико, какое всякий раз производит на меня впечатление, когда ты так ясно, так верно выкладываешь передо мной все мои ощущения. Я сама хорошенько не понимаю, какое чувство овладевает мною тогда — и удивляет это меня, и приятно, и досадно... Но я ужасно люблю эту черту в тебе. Она внушает мне какое-то чересчур сильное доверие к тебе. Будто ты сидишь в моей голове всякий раз, когда я одна в своей комнате склоняюсь над книгой зоологии или физики и вместо букв черт знает что проходит перед моими глазами. Столько там неясного, необъяснимого, сколько чего откладывается. Вот об этом, мол, поговорю с Нико...
Не знаю почему, но какое-то приятное чувство сидеть в своей комнате, ломать голову над какой-нибудь глупостью, мучиться из-за этого. Я знаю, что если начну с кем-нибудь говорить об этом, тогда будет не так мучительно. Но вот этого-то и не хочется мне. Как-то приятнее помучиться. Неправда ли, глупое чувство? Но это так.
Так и начинается оно, истинное и глубокое чувство: с «чересчур сильного доверия», с ощущения, что тот, другой человек будто находится в тебе. И все-то он знает, о чем ты думаешь и что с тобой происходит. А с тобой происходят всякие неясности и необъяснимости, глупые, мучительные и, вместе с тем, приятные. Вероятно, и у Олико пробуждается нечто подобное в ее пока еще не возмущенной никакими страстями душе. Может быть, просится что-то из глубины, а она то прячет, то выпускает, прислушиваясь к себе...
Вот и пасха. Нико снова приехал из Парижа с желанием наконец-то насладиться обществом близких, побегать по редакциям радикальных газет, в которых когда-то активно сотрудничал, подышать предвыборным воздухом. И вдруг все летит вверх тормашками. У Нико с Георгием Церетели возникает какой-то неприятный разговор, сначала частный, потом открытый, в который втягиваются все. На стороне Нико мало защитников — его сестра Като Николадзе, Ботя, Олико и сестра Георгия, Машико. Зато на стороне Георгия — сестра Нико, Олимпиада и почти все остальные члены женевской группы «Угели». Спор принимает такой резкий оборот и оскорбительный для Нико характер, что он тут же уезжает в Париж.
К сожалению, последующие письма Нико и Олико не проливают полностью свет на этот инцидент. Можно только строить предположения. Дело в том, что Георгий Церетели, по существу взявший руководство «Угели» в свои руки, давно уже собирался дать Нико генеральный бой. Многое претило ему в поведении Нико, и он высказывал это и в беседах, и в письмах.
Он считал, что Нико должен сосредоточить свои материальные средства прежде всего на угельской группе и на грузинских литературных изданиях в Тбилиси. Он осуждал Нико за го, что тот стал поддерживать новую газету на русском языке «Тифлисский вестник», что он не бросает «Библиотеку Иванова», которая доставляет много хлопот и материально себя не окупает.
Он обратился с письмом и к Олико, чтобы та воздействовала на Николадзе. «Нужно сказать, — писал Георгий в этом письме, — что Нико человек даровитый и больше, чем кто-нибудь из нас, подготовлен вести какое-нибудь серьезное предприятие, могущее поддержать нас, пока мы еще находимся в периоде подготовки. Но при этих личных качествах у него есть один капитальный недостаток: уверенность в большей моготе, чем в самом деле он в состоянии сделать. Например, способный поймать только синицу, он получает уверенность схватить в воздухе журавля. Вследствие этого, чуть мало-мальски он улучшит положение, сейчас же задумает подвинуть вперед русскую литературу и вместе с Антоновичем встать во главе русской молодежи. Для этого он входит с ним в сделку и постановляет условия. Будучи за границей, он вступает в новые условия с Мечниковым или каким-нибудь другим эмигрантом, заставляет его написать что-нибудь серьезное, обещается открыть типографию и стать организатором русской эмиграции.
Явится ли он на свою родину, сейчас задумает развить промышленность и торговлю в крае, сплотить в одно целое все здоровые элементы своей нации, подорвать торговлю пришлых людей и, посредством промышленной конкуренции, вытеснить врагов нашего национального существования. Старается создать местную литературу, помочь умственному перерождению разнородных элементов нашего края, создать на русском языке орган, который сделался бы противовесом русского влияния на Кавказе...
Как видите, предприятия обширны. Человек, берущийся за такие дела, должен иметь геройскую решимость Гарибальди, политический ум Маккиавелли и средства английского государства. Но так как вместо всего этого мы видим только хорошо организованный, довольно способный ум с материальными средствами, не стоящими выеденного яйца, то на практике происходит ужасная несостоятельность».
Так писал Георгий о Нико. Действительно, Нико разбрасывался. Действительно, хотел как можно больше объять и не мог по своей натуре не вмешиваться в то, что его волновало. Виноват ли он в этом? Виноват ли, что его искренне волновало многое — и русские революционные дела, и Национальные собрания в Париже, и борьба радикалов в Швейцарии? И, главное, разве это плохо, что он со своими активными знаниями, со своим багажом и, как бы мы сказали сейчас, личными контактами все это нес на алтарь своей Грузии?
Но вот, его ближайший друг возымел надежду переделать Нико, сосредоточить его на одном, как бы замкнуть его на ключ.
Бог знает, какие еще мотивы руководили раздражением Георгия. Могли быть и мелочи. Например, восторженный вид Нико, его донжуанство при всеобщем безденежье и болезнях. Или существование в угельской группе такого «балласта», как Ботя Земянская, которая вела себя пассивно, не училась и, грубо говоря, ела даром хлеб... В общем, разговор, видимо, сошел с высоких, принципиальных позиций и принял форму разноса Николадзе при всем честном народе. Активно поддержала этот разнос Нико и невеста Георгия, всегда недовольная, нервно-возбудимая Олимпиада. Пошли какие-то унизительные упреки, посягательства на личную жизнь. Наверное, и Нико вспылил, наговорил каких-то глупостей, заявил, сгоряча, что уходит от дел, пропади они все пропадом...
Нико —Олико
Апрель, 1874 г. Париж.
...Чем больше я думаю о происшедших несогласиях и раздорах, тем больше прихожу в раздражение. Откровенно признаюсь тебе, как и себе самому, что это чуть ли не единственный казус в моей жизни, который бесит и волнует меня. Есть в моем сердце какие-то струнки, которые против моей воли раздражаются, как только я вспоминаю об этом деле. И я чувствую, что от этого я мыслю односторонне, фальшиво или несправедливо. Но что это такое? Не самолюбие же мое задето, в самом деле? Оно у меня не так уж мелко. Страх перед будущими столкновениями? Я к ним привык.
Могу сравнить теперешнее мое положение только с тем состоянием, которое порождает в нас ревность. Оказывается, что не так-то легко расстаться с делом, которому отдался душой, любил беззаветно и без оглядки. Не так-то легко расстаться е людьми, которых всю жизнь любил и считал товарищами. И чем больше я имею оснований считать неправыми моих друзей, тем больше боли в сердце, тем более досады и раздражения является в характере и действиях.
Чувствовала ли ты когда-нибудь физическую боль от появления какого-нибудь нарыва? Какой-то неудержимый позыв к чесотке! Какие-то адские колотья шипами! Какое-то невыразимое ощущение внутреннего огня!.. Все это ежеминутно возрастает. Так и хочется вцепиться в нарыв и вырвать его е корнем, вырезать, выбросить...
Олико — Нико
Май, 1874 г. Женева.
Ты мне все стараешься объяснить свое состояние. Даю слово, что я это представляю до мельчайших подробностей. Я ведь приблизительный зритель в этой драме, но судя по тому, что со мной происходит, могу представить и твое положение. Не знаешь, что думать о дальнейшем, как будто все мечты твои разбегаются. Но крайней мере все мои представления о дружбе провалились. Нет идеальной дружбы, не может ее быть в этом не идеальном мире!..
До сих пор единственное, что я себе представляла идеальным — это дружбу. Ну разве можно жить без идеализации? Ты же недавно согласился со мной, что жить в настоящем нельзя, что человек живет будущим. Не то же самое это, что сказать, что жить без идеализации нельзя? Ведь настоящее всегда проза, а будущее представляется более или менее в идеализированном виде. А какое же дело может существовать без дружбы?
Эх, не хочу дальше продолжать! «Вопросы, вопросы, одни лишь вопросы с тех пор, как земля вертится...».
Теперь Нико со всей страстностью своей активной натуры принялся осуществлять задуманный им план: решил перевести из Женевы в Париж «свою группу», изъять ее временно из создавшейся там враждебной обстановки. Для этого он нашел в не очень презентабельной части Парижа маленькую квартиру из трех изолированных комнат, всего по 500 франков в год. Комнаты следовало меблировать, но и это не представляло больших трудностей — еще 500—600 франков, и только.
Давно уже жил он на деньги своих компаньонов по предполагаемому «ткибульскому делу»: все равно долги, все равно надо будет расплачиваться!.. Как всегда, к деньгам он относился с презрением, легко с ними расставаясь к считая, что они, деньги, служат человеку, а не человек им.
Сейчас они ему нужны. И он их тратит. Нельзя же, в самом деле, оставлять девочек с этими желчными, раздраженными, мелочными людьми, думал он. Теперь они за него, за Нико, будут их поедом есть! И он пишет Олико письма, полные соблазнительных перспектив, посылает чертежи квартиры. Тут, мол, лестница, там — коридор, кухня, туалет... «Мне необходимо, — пишет он Олико, — чтоб ты приехала сюда хоть на несколько дней вместе с Ботей. Вы поможете мне устроить все по вашему вкусу и капризу...» «Я убежден, — пишет он ей в другом письме, — что, увидя квартиру, ты придешь в такой восторг, что от всего сердца расцелуешь меня, несмотря на отвращение к подобным операциям...»
Тотчас откликнулась на эти призывы Ботя Земянская и, не забрав с собой даже элементарно необходимых вещей, вспорхнула и полетела в Париж. Ей и вправду стало в Женеве не по себе.
Олико же медлила, отлынивала, писала, что приедет потом. Она не видела необходимости покидать университет и, особенно, лабораторию Фохта, где ей хорошо работалось. Ее увлекла наука, ей нравился учитель, с которым у нее установились контакты. Чувствовала она свою полезность и самому Фохту: ведь именно он, этот всемирно известный ученый, на ней изучал новую, неведомую ему форму кавказской малярии, привезенной Олико из дому. Стоило Олико слечь с очередным приступом, Фохт тут как тут появлялся перед ней со своим ассистентом и брал под наблюдение ход болезни.
Последнее, конечно, не столь важно. Важно, что ей совсем не хочется бежать из Женевы. Ссора Нико с Георгием и Олимпиадой? Но это же ссора между друзьями! Конечно, Георгий несправедлив по отношению к Нико, но Георгий — товарищ, а Олимпиада — сестра, и все это пройдет со временем. Тут, в Женеве, ее круг, ее земляки, ее «Угели». Пусть даже «хромающее», а все же свое... Вот-вот приедет в Женеву и поступит в университет Анна Домбровская, еще одна ее тифлисская подружка. Наконец, здесь, в Женеве, Като Николадзе, самая близкая из сестер Нико. И, говоря по правде, Олико очень коробит, что, приглашая ее и Ботю в Париж, Нико ни разу не обмолвился словом о Като. Будто можно Като оставить здесь... Это же черт знает как не по-товарищески!..
Нет, она не поедет к Нико в Париж. Достаточно ему и Боти в его расстроенных чувствах.
По всему видно, Ботя быстро шла к намеченной цели полного и безраздельного завоевания Нико. Лучшей ситуации для этого нельзя было себе и представить, чем та, что сложилась в Париже. Понимала ли это Олико? Несмотря на всю свою неопытность и мальчишечность, наверное, понимала. Но где-то в глубине. На поверхности же все это ее как бы не занимало.
В свое время в длинном вояже из Поти в Цюрих Нико уопел пылко влюбиться в Олико, и на Женевском озере, у поэтического Шильонского замка, сделал ей предложение. Олико ответила ему решительным отказом. Не для того она бежала из дому, чтоб выскакивать замуж даже за такого дорогого для нее человека, как Нико. Дружба — да. Она обещает ее «на жизнь и на смерть», до гробовой доски. Обещает со всей серьезностью цельного и твердого человека.
Нико перенес свои нежные порывы на Ботю. Но Олико продолжала стоять для него на высоком пьедестале. Она была дорога ему, интересна и неизмеримо более уважаема. То были сложные чувства, весомые и сильные, в которых не последнюю роль играло и уязвленное мужское самолюбие.
Нико все еще метался, медлил делать решительный шаг, сковывать себя узами Гименея. Он уже достаточно набрался жизненного опыта, чтоб решать что-либо опрометчиво. Однако, презрев мнение света, они с Ботей поселились в одной квартире, находясь друг с другом в отношениях влюбленных квартирантов.
Стало ли Нико от этого лучше, веселее на душе? В соответствии с воцарившимся в парижской квартире тоном в письмах усилились ноты игривости, фривольности. Они быстро сменялись унынием, жалобами, паникой...
Да, неважный выдался этот год для Нико. Что-то он не находил себя в роли дельца, нервничал, делал промахи, сердился на себя, на всех окружающих. Олико же, напротив, день ото дня набиралась какой-то жизненной мудрости, спокойствия и довольно твердо вела себя со всеми.
Олико — Нико
Май, 1874 г. Женева.
Давно у нас не было такого хорошего собрания. Мне кажется, что после него всякий из нас хоть что-нибудь да вынес. До 10 часов читали «Вепхисткаосани», а с десяти до часу сообщали сведения, собранные из газет. Вот эта часть вечера мне очень понравилась. Георгий Церетели представил сведения о Германии, очень толково и логично. Он сообщил текущие события, но чтобы сделать их ясными, рассказал вкратце предшествующую историю. Он не читал, а рассказывал. И, конечно, по-грузински, так славно, так хорошо. Будь это в другой раз, я бы окончательно заслушалась. Но тут этого как-то не случилось, хоть я и наполовину забыла, кто там меня окружал. Говорили, спорили, поправляли друг друга. И все это как-то мирно, без колкостей, без злости.
Но только кончили сообщения — и я сошла с небес. Предложили говорить об «Угели», и пошли опять тупые, избитые остроты. Но это продолжалось недолго. Я встала и заявила, что на все согласна, ибо хочу спать. И собралась идти. Другие, вероятно, на основании того, что они ни на что не согласны, тоже разошлись.
Начала с Надей читать Геккеля. И очень, очень, довольна. Больше всего приятно поражает меня его манера рассказывать. Каждое его слово так серьезно, так научно и, вместе с тем, так легко, так, можно сказать, «шуточно» — совсем не похоже на немецких глубокомысленных мыслителей. Знаешь, мне кажется, что у Фохта такое же устройство мозга. С Геккелем никогда не устанешь, сколько бы и что бы он тебе ни рассказывал. То же самое и с Фохтом. По-моему, это огромное достоинство в ученом, по крайней мере по отношению к нам грешным, неучам...
Прощай, прощай, дорогой Нико, больше не о чем писать...
Ботя, дорогая моя, не злись на меня. Я тебе завтра непременно напишу...
Нико — Олико
Июнь, 1874 г. Париж.
Я убежал сегодня от моих дел и имею поползновение с Ботей, Месхи и Дадиани уехать в Версаль, где сегодня ожидается интересное заседание Национального Собрания по вопросу об избирательном законе. Мы слишком поздно решились ехать и достанем ли места для всех — это вопрос.
Несмотря на то, что Периоле в Венеции наслаждается своим медовым месяцем (неужели ему там не жарко с его пухленькой супругой?), и на то, что до его приезда я держу достопочтенного Зедера в Меце, в карантинных объятиях его супруги, я здесь ежедневно, часа по три-четыре, занимаюсь с различными дураками, которых, к несчастью, не мог сплавить ни в медовый месяц, ни в серебряную или золотую свадьбу. Между тем, когда я шляюсь по этим делам, Ботя сидит дома одна и зевает. Она мало-помалу начинает работать.
Но я начинаю трусить за тебя. Ты пишешь, что под влиянием Геккеля становишься мнительной. А Надя писала перед этим, что ты старательно предаешься изучению вопроса о создании «человечков» из клеточек. Что-то будет дальше? С кем ты разрешаешь эти вопросы? И как? Умозрительным путем или же опытным? Я трепещу за тебя, за твою нравственность, хоть и уверен, что даже научное любобытство не в состоянии поколебать твоей целомудренности.
Олико — Нико
Июнь, 1874 г. Женева.
Сколько времени я не имею никаких сведений об вас, будто и след ваш простыл. А, знаешь, в Цюрихе между нашими грузинами идет целая революция. Одни вышли из общества (которого, кажется, и без того не существует), озлоблены друг против друга, как кошки с собаками. Месхи, не знаю по какому стечению обстоятельств, иначе не называют, как Бисмарком. Как и здешние, они все отрицают, за исключением, конечно, своего я. Больше всего отрицают вас, диктаторов. И вместе с тем обвиняют, что вы не водворяете порядка, не учите, как быть, как устроить общество. При этой неумолимой логике приходится только раскрыть рот, чтоб не задохнуться... Ты спрашиваешь, почему Церетели не посылает статей в «Дроеба»? Представь себе, что он принял такое решение, как и ты, — не участвовать в «Дроеба» до поры до времени. Это понятно: высокие умы находят друг друга!..
А я, как не высокий ум, признаться, в толк не возьму — что от того, что вы браните эту газету, про которую сами говорили, что она имела у нас влияние? И если она полетит к черту (что непременно произойдет!), не понимаю, что вы этим докажете? Право, уж лучше, коль вы диктаторы, так и оставаться до конца диктаторами, а не ретироваться в самый критический момент. Неужто вся наша молодежь такие идиоты? Тогда действительно — махнуть на все рукой. Но я в этом далеко не убеждена...
А у нас все идет ничего, очень даже недурно. Право, почти с удовольствием проводишь эти вечера, во всяком случае с пользой. Но больше всех заинтересовывают наши собрания Церетели и Джапаридзе. Они представляют всегда какое-нибудь цельное сочинение, тоже о текущих событиях. Возьмут какой-нибудь из последних вопросов, один по Германии, другой — по Испании и изучают его со всех сторон, объясняют его происхождение. А мы, грешные, предъявляем только газетные сведения. Но все это вместе идет очень оживленно, весело и с интересом. А самое главное то, что у нас есть газеты, журналы, что мы все их читаем с большим рвением.
Помнишь, как мы раньше протестовали, что устно не следует предъявлять? А теперь, небось, все рассказывают устно и находят это гораздо удобнее. Для себя же лично я нахожу, что до поры до времени мне надо заниматься этой работой письменно, пока не приучусь «думать» по-грузински. Знаешь, чего мы достигаем на этих вечерах? Теперь гораздо реже завязывается разговор на русском языке — все почти говорят по-грузински. Это, по-моему, прогресс...
Нико — Олико
Июнь, 1874 г. Париж.
Увы, увы, все, что ты пишешь о «Дроеба», совершенно справедливо. По чувствительному выражению —- «сердце обливается кровью» всякий раз, когда я беру новый нумер этой газеты. Но что же делать? Раз я решил на многие годы (если не навсегда), что отхожу в сторону, я сдержу свое слово, что бы там ни происходило. И как бы бездарно ни вели это дело оставшиеся, они не соблазнят меня вновь впрячься в эту жалкую телегу.
Когда, ввиду их апатии, я делал что-нибудь «по-своему», я слыл диктатором, деспотом, человеком, думающим только о себе, и т. д. Очень может быть, что я был неправ. Но я утверждаю, что ни один человек с мозгами и с действительно честными, горячими стремлениями не уживется с этой мертвечиной, у которой только и есть средство спасти свою репутацию — заподозрить всех остальных в бесчестии и безнравственности. Охотно соглашаюсь, что сами они самые честные и нравственные люди: ведь трупы нравственны и честны уже потому, что не 'могут быть безнравственными и бесчестными, если б и хотели того. Но вопрос о том, что при всей, ими же хвалимой, нравственности, они усыпляют публику и вредят делу. Я думаю, что гораздо безнравственнее вредить делу с этой стороны, чем ухаживать за Ш. и Б. Впрочем, это старый вопрос... Повторяю, ты можешь строго отнестись к моим словам, но мне физически невозможно поступить иначе. Что во мне действовала не лень, ты увидишь из номеров «Тифлисского вестника», куда я послал несколько статей. Там я свободен. Там никто не заглядывает в мою спальню для того, чтобы приятельски «удружить» какой-нибудь сплетней или клеветой. И если я чем-нибудь могу быть полезен у нас, «Тифлисский вестник» достаточен для этого. Ведь тысячу раз лучше приносить пользу на русском языке, чем заводить кутерьму на грузинском... Довольно об этом печальном предмете: он меня всегда трогает слишком близко к сердцу...
Олико—Нико
Июль, 1874 г. Женева.
Какие ты стал писать беспокойные письма, дорогой мой Нико! Право, это так не похоже на тебя, что я читаю и глазам своим не хочу верить: чтоб ты да стал нюни распускать?!
Что бы я дала теперь, чтоб быть в Париже и видеть тебя: как ты там находишься в чувствительном, драматическом настроении духа. А с другой стороны — нет. Я привыкла представлять тебя с известным видом: «Наплевать, мол, на все. Я свое сделаю, я свое знаю». Не желала бы ни за что изменять этого образа, потому, что я тебя только и понимаю с этим образом. Поставь на это место какой-нибудь другой — это уже будет не Нико... Одним словом, для меня не сопоставимо — ты и уныние. Если б, кажется, я увидела, что ты совсем на все махнул рукой, — и тогда бы я не поверила! Я бы все говорила, что этому не бывать — никогда, никогда!.. И знаю наверно, что никогда в этом не разубежусь, что бы там ни было, хотя бы весь мир махни на тебя рукой...
Ну, довольно, что-то слишком раскудахталась. Все виновата погода: темно, мрачно, дождь льет. А тут сидишь одна в своей комнате, и со мной моя родная лихорадка...
Прощай, дорогой мой. Олико.
Нико — Олико
Август, 1874 г. Париж.
Милая моя Олико! Благодаря сегодняшнему празднику я дома и вволю могу написать тебе всяческие измышления и новости.
Бебутов пишет мне, что Акакий действительно подшутил над одним из моих «друзей» и сказал ему, что я вошел в сношение с австрийским императором о восстановлении или продаже Кавказа. Этот «друг» взял да, недолго думая, послал донесение прокурору Кутаисского окружного суда. Тот сейчас же назначил следствие с участием жандармского полковника. Не знаю, вытребовали ли они в Кутаиси по повестке австрийского императора, но Андреев, прокурор Тифлисской окружной палаты, советовал Бебутову написать мне о том, что мне не мешает принять меры по части паспорта. Кутаисские власти не на шутку переконфузились, когда обнаружилось, что все это мистификация, пущенная в ход Акакием Церетели, и что они задаром исписали воз бумаги...
Другая новость: мой перевод рошфоровского «Фонаря», напечатанный в «Тифлисском вестнике» повлек за собой гнев барона Николаи, который, как пишет Бебутов, задал Максимовичу страшнейшую головомойку за пропуск этого перевода.
Ты прочтешь в № 73 «Тифлисского вестника» фельетон Бебутова об аресте гг. Твинмейстера, Гоберидзе и Ванды. Это — цензор Коваленский, Виссарион Гогоберидзе и Леванда. Их забрали за то, что они в два часа ночи сидели на бульваре и шептались. Вот до чего доходит трусость: шептаться в два часа ночи! Но, видно, что и это не помогает... Не бойся, их не сослали и не повесили. Их выпустили, когда оказалось, что все они статские советники и что они шептались о том, как хорошо быть действительными статскими советниками...
Здесь мои дела в течение последнего месяца приняли отличный оборот, но затем все решительно рухнуло и полетело к чертям. Теперь я с превеликим трудом склеиваю части. Когда все это кончится — единому аллаху известно. Но, надеюсь, что теперь это — «последняя буря» (не забудь, что всякий раз, когда дела идут скверно, я твердо убеждаю себя, что это решительно и абсолютно «последняя буря»).
Представь, даже Зедер заартачился на днях и потребовал, если, мол, дело не скоро кончится, возвратить ему его 122.000 франков. Я фыркнул при одной мысли, что у меня, человека, который не имеет 12 франков в кармане, требуют такую баснословную сумму. Но я твердо ответил: «Что ж, хорошо. Раз вы этого хотите, вы... получите». Вероятно, мой решительный тон удовлетворил его (тон стоит 122.000 франков!), ибо Зедер сказал: «О, я не для этого сказал. Это просто такая манера выражать свои мысли. Я только хотел сказать, что дело слишком затягивается»... Шутки в сторону, а дело скверно со всех сторон. Если мне удастся выйти как-нибудь из этого положения, я вполне уверую в силу сатаны...
У вас завтра начинается конгресс. Месхи мне говорил, что от нас ожидается присылка четырех франков с чем-то с каждой физиономии. Увы, это фикция. Денег теперь у нас нет, но если добудем, я пришлю...
Сегодня я посылаю Като письмо с приложением прошения в «Угели» об увольнении меня от членства этого общества. Ты не одобришь этого. Но что делать? Мне кажется, что мне следует так поступить.
О КОНГРЕССЕ УГЕЛЬЦЕВ
Мы поехали в Женеву, где застали уже съехавшимися почти всех грузин, бывших тогда за границей. Там был представителем Дагестана доктор Домгат, был совершенно юный П. Алибеков в качестве представителя Армении, была А. Домбровская, уроженка Кавказа, полуполька-полунемка. Все же остальные, насколько помнится, были грузины. Из грузин тут были Георгий Церетели, Александр Сараджев, Иванов, Джапаридзе, Пётр Меликов, князь Реваз Чолокаев, князь Александр Цицианов, княгиня Гурамова, Екатерина Меликова, две сестры Николадзе, Элиозов, С. и И. Месхи и многие другие, которых я теперь не припомню. В общем, на конгрессе присутствовало человек сорок.
Конгресс был объявлен публичным. Думали было даже вести прения на французском языке, но скоро оказалось, что огромное большинство не владеет им. Решили затем вести прения на грузинском языке, но и это оказалось неудобным, во-первых, потому, что многие из грузин, воспитывавшиеся в русских закрытых учебных заведениях, не могли и двух слов сказать на родном языке, а во-вторых, в конгрессе присутствовали дагестанец, армянин, русские, из уважения к которым надо было остановиться на языке, доступном всем. Остановились поэтому на языке русском.
Помещение для конгресса было нанято где-то совсем за городом. Дом стоял особняком, в нем был светлый, довольно вместительный зал. Сюда в первые дни заглядывали русские эмигранты — Ткачев, Гольденберг, Элпидин, Ник. Жуковский, французские коммунисты — Лефрансэ, Монтельс, Бабик и другие. Наконец, некоторые русские женщины, среди которых особенно выделялась своей внешностью Гребницкая, сестра Д. И. Писарева, которая являлась на конгресс в мужском костюме...
Председателем Конгресса был избран Георгий Церетели... До открытия заседания члены конгресса почтили память погибших коммунаров вставаньем. Так же почтили и память покойного Дзигаева, ближайшего, тогда единственного из кавказцев, сотрудника Бакунина. Дзигаев был родом осетин...
Главный вопрос, подлежавший разрешению конгресса, заключался в том, следует ли кавказцам и, в частности, грузинам, стремиться к созданию федеративной кавказской республики и если да, то какие меры надо принять для этого. Или же: следует ли нам, кавказцам, примкнуть к революционному движению в России, задачи которого сходны по цели с социально-революционным движением на Западе, и, работая рука об руку с русскими революционерами, стремиться к ниспровержению существующего гнета во всем русском государстве?
Иван Джабадари «Процесс 50-ти».
Отторгнутость от угельских дел, ссоры и обиды не вызывали у Нико желания присутствовать на конгрессе, да и вообще участвовать в работе общества. Но, может быть, здесь было и еще что-либо, более принципиальное, чем все эти «мелочи жизни»? Может быть, он не чувствовал полной солидарности с той линией, которую проводил Георгий, считал, что он торопится и слишком нажимает в вопросе о федерации?
Правда, год тому назад, выпуская «Дроша» в Париже, вместе с П. Измайловым и Д. Микеладзе, Нико объявлял в передовой статье идеалом «свободную федерацию всех кавказских народов на основе экономического равенства всех граждан». Но тут же добавлял, что между нынешним положением и идеалом существует огромная дистанция и двигаться вперед надо с помощью развития органов местного самоуправления и земства. Это, мол, поднимет материальный и культурный уровень народов Кавказа, сблизит их между собой, а также и с русским народом. А дальше от этих земских съездов — один шаг и до всеобщих политических собраний. Нико Николадзе в ту пору особенно волновала идея земства для Грузии, больше чем какие-либо другие далекие от осуществления идеи. И он. наверно, был противником преждевременных разговоров о предметах далекого будущего.
Так или иначе, но конгресс прошел без Нико. Недовольная таким его поведением, Олико не стала ему писать подробных рапортов. Сообщила лишь, что вдоволь «насмотрелась на мелкие самолюбишки», что Георгия Церетели никто не может узнать, кто его увидит после конгресса, задает вопрос: «Что с ним такое? Отчего у него растерянный и испуганный вид?»
В спорах на конгрессе большинство угельцев поддерживало Георгия Церетели. Однако он был задумчив и растерян. Ожидал, видимо, полного единодушия. Но этого не случилось. И все же Георгий находился в гуще событий — высказывался, выслушивал, спорил, словом, выковывал свои убеждения и использовал свое влияние. И это уже было хорошо. Что же касается Нико, тот всего этого лишился по своей воле, и Олико упрекала его за это.
— Как неприятно было мне, Нико, — писала она, — когда на нашем собрании прочли твое письмо об увольнении из общества. И прежде я тебе это говорила: право, не понимаю в этом отношении твоего поведения и не оправдываю. Неужели так уж, огулом, вся наша молодежь ни к черту не годная, ни к чему не способная и с нею нельзя иметь дел? Да, наконец, дело все-таки придется иметь с нею. А так ты отталкиваешь от себя всю эту молодежь, так же как и последующую, которая будет сходиться с этой...
Нет-нет, Нико был, конечно, неправ. Многоопытный, закаленный в идейных битвах, и вдруг, в период кульминации дел отходит в сторонку. Не согласен — доказывай, спорь, спрячь свои личные обиды. Но только не рядись в плащ оскорбленной невинности... Процессы же идут сами по себе, независимо от участия в них тех или иных лиц. Процессы сложные, любопытные.
По сравнению с мощными заседаниями Интернационала, весьма и весьма скромно выглядел этот громко названный конгресс, собравший несколько десятков разбросанных на чужбине студентов-грузин. А между тем и здесь был сильный политический побудитель — забота о своем маленьком народе, желание принести ему пользу. Неважно, что собравшиеся в Женеве не знали еще, с какой стороны за это браться. Важно, что они чувствовали, что это делать надо, пытались найти пути.
Как и полагается, на конгрессе было много споров. Но одна группа участников сразу же и в корне отвергла идею кавказской федерации, считая, что для такой общности вообще нет никакой почвы. Скорее бы надо присоединиться к всероссийскому социально-революционному движению, ехать в центры России работать рука об руку с русскими и тем самым добиваться политической и экономической свободы для всех народов российского государства. Эта часть молодежи считала, что объединение Кавказа в форму республики сведет великую, социально-революционную борьбу к узконациональной задаче.
Среди людей, высказывающихся таким образом, были те самые два Александра — Цицианов (Цицишвили) и Элиозов (Элиозишвили), о которых Олико сообщала с большой симпатией в одном из писем. Были приехавшие из Петербурга в Париж студент медико-хирургической академии Иван Джабадари и офицер Михайловского артиллерийского училища Михаил Чикоидзе.
Еще до конгресса, а особенно после него, они сблизились с группой русских девушек из кружка «фричей», найдя в них единомышленников и поборников немедленных революционных действий. Выяснилось, что почти все они, кроме Веры Фигнер и Доры Аптекман, с легкостью бросают свои учебные заведения для того, чтобы с головой окунуться в практическую подпольную работу в России. Тут же, в городе Берне, происходит как бы закладка новой организации, которая впоследствии, на процессе 50-ти, называется Всероссийской Социально-Революционной. Безусловно, толчком к этому служат споры, возникшие на конгрессе угельцев, и та информация о расправах с революционерами, которую привезли за границу Джабадари и Чикоидзе.
— Мы пошли с ним (с Чикоидзе) к фричам, — вспоминает И. Джабадари.— В небольшом нумере Евгении Субботиной мы встретили Веру Фигнер, которая молчаливо следила за нашей беседой, а также Топоркову, Дору Аптекман и Хоржевскую. Я предложил Чикоидзе открыто поставить вопрос об объединении наших кружков в присутствии всех членов кружка «фричей», для чего нужно всем «фричам» собраться в России. А так как главным базисом революционной деятельности предполагалось нами избрать Москву, то и было условлено устроить съезд в Москве, в декабре 1874 года.
Позже ко всем уже названным кавказцам присоединились Антимоз Гамкрелидзе, Георгий Зданевич, Степан Карташов, Георгий Атабегов, Константин Бакрадзе, Исидор Кикодзе и Николай Худадов. Решительные действия этих молодых людей, исполненные бескорыстия, личной отваги и жажды геройства, выглядят очень привлекательно. Они бросили все свое состояние на нужды организации, как это было, скажем, и с богатыми орловскими помещицами сестрами Субботиными, или с состоятельным князем Александром Цицишвили. Изнеженные девушки шли наниматься на фабрики, дабы просвещать народ изнутри идеями равенства и братства.
У них было желание не делать свою организацию чисто интеллигентской, вовлечь в нее побольше сознательных передовых рабочих. Не случайно поэтому, просуществовав всего лишь полгода, она представила на скамье подсудимых по процессу 50-ти не совсем обычное общество: вместе с русскими здесь было много грузин и несколько армян, вместе с мужчинами — много женщин и вместе с интеллигентами большое количество рабочих. И именно с этой скамьи вместе с острой, полной интеллектуальной силы речью «тетки» Софьи Бардиной прозвучала знаменитая речь рабочего Петра Алексеева.
О РЕЧИ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА
Итак, выбор наш пал на Петра Алексеева. Ему в общих чертах намечено было, о чем говорить, и предложено было, чтоб он сам написал свою речь. Он ее написал в главных чертах так, как она была произнесена на суде и как появилась в печати. Я исключил некоторые длинноты, исправил грамматические ошибки, вот и все. В окончательной редакции речь была просмотрена и другими членами организации — Чикоидзе, Цициановым, некоторыми женщинами, которые сидели рядом со мной и Петром Алексеевым на суде. Затем я просил Петра, чтобы он заучил речь наизусть, как «Отче наш», и декламировал бы ее у себя в камере. Он ее выучил и читал на память мне и Чикоидзе, между которыми он сидел.
За день или за два до произнесения этой речи мы с Чикоидзе произвели нечто вроде генеральной репетиции. Во время обеденного перерыва между заседаниями заставили Петра Алексеева, вытянувшись во весь рост, держать речь, как бы обращаясь к председательскому креслу. Он произнес ее без запинки и крайне выразительно. Когда посреди речи Чикоидзе перебил его обычным председательским окриком: «Подсудимый, остановитесь!», Петр Алексеев вместо того, чтобы остановиться, повысил голос, оттолкнул Чикоидзе и докончил речь. Мы беззвучно аплодировали, к великому удивлению окружавших нас жандармов. А Петр, обратившись к Чикоидзе, сказал: «Ишь ты какой! Хотел меня сбить? Нет, брат, теперь не собьешь!». «Молодец, Петруха, молодец!..» — говорил Чикоидзе, с силой ударяя его по плечу.
Во время произнесения им речи перед судом мы сидели на том же месте, на последней скамье, и в том же порядке, между мной и Чикоидзе сидел Петр. Чикоидзе держал написаннию речь перед собой. На случай, если бы Петруха сбился, он должен был подсказать ему. Действительно, в середине речи, при глубоком молчании всех, когда и суд и публика и, в особенности, подсудимые слушали его с затаенным дыханием, вдруг Петр на мгновенье запнулся и остановился. Я положительно обмер от паузы, которая показалась мне вечностью. Но Петруха, сказав почему-то «Виноват...», пошел дальше и блестяще закончил при громких аплодисментах публики...
Иван Джабадари «Процесс 50-ти».
Петр Алексеев погиб в, ссылке, убитый бандитами. Михаил Чикоидзе умер от чахотки в захолустном углу Сибири. Александр Цицианов сошел с ума в Харьковском централе. Иван Джабадари, отбыв ссылку, вернулся в Тбилиси, женился на одной из фричей, Ольге Любатович, работал в городском самоуправлении присяжным поверенным. Александр Элиозов застрелился в Тбилиси, на улице, в момент, когда его пытались схватить жандармы. По чистой случайности остался на свободе Нико Худадов. Позже он стал врачом. «Доктор Нико» долго работал в Тбилиси, связанный с нелегальными кружками рабочих, пока предательская пуля черносотенца в 1907 году не прервала его. жизнь. Вера Фигнер двадцать лет сидела в Шлиссельбургской крепости, выйдя из
которой, продолжала общественную деятельность. Софья Бардина («Тетка») бежала из ссылки в Ишиме за границу, в Женеву, и там застрелилась. Покончили жизнь самоубийством многие другие фричи — все, что случилось с ними, уж очень изломало их психику. Но дело, которому они вручили свои молодые жизни, позволяет причислить их к той блестящей плеяде революционеров 70-х годов, которые, своей самоотверженностью немало сделали для того, чтобы расшатать царский престол.
Но если вернуться к августу 1874 года в Женеву, к загородному дому, где происходили споры угельцев, было бы неверно считать, что вся остальная часть угельцев, которая не ринулась в революционное подполье, была настроена узконационально. Вернее было бы сказать, что она была настроена просто национально. А что же в этом удивительного? У всех людей есть могучее чувство своей родины, своего народа, своего дома и своих домашних дел. Стоит перед глазами (особенно на чужбине) своя земля с природой, песнями, обликом ее деревень, одеждой крестьян, характером и традициями, речью и шутками. Есть сильная привязанность к ней, к этой земле, желание и надежды помочь ей, сделать жизнь своего народа достойнее, человечнее. А для этого прежде всего — противостоять все усиливающемуся колониальному нажиму царского правительства, разгулу великодержавного диктата.
И было бы странно, неестественно, если б угельцы, которые здесь, в Женеве, возвращали утраченный ими на родине свой родной язык, угельцы, которые были полны надежд развить у себя в Грузии свою литературу, прессу, образование, науку, вдруг все как один поехали бы в Россию. Нет, конечно! Большая часть из них готовилась к активному участию в национально-освободительном движении у себя на родине. Правда, у иных это здоровое чувство превращалось в «зоологическую» любовь только к «своему» и слепую ненависть к «чужому». Но яснее это обозначилось позже.
Отшумели страсти на конгрессе. Георгий Церетели уехал в Грузию, озабоченный устройством своих семейных дел с Олимпиадой Николадзе. Сергей Месхи тоже вернулся в «Дроеба». Достаточно разговоров. Надо поправлять совсем было захиревшую газету! «Угели», по существу, прекратил свое существование.
Почему же Олико не ушла вместе с горячими головами немедленно в практические дела? Ведь она дружила с фричами, она симпатизировала тем своим соотечественникам, которые спорили на конгрессе с Георгием Церетели! А потому, наверно, что в ней все-таки сильнее звучало чувство своей родины. Позови ее туда, она, быть может, отозвалась. Но ее никто не звал. И потом, она вовсе не считала себя готовой для каких-либо дел. Она хотела еще учиться наукам и жизни вообще. Это было в ее восемнадцать лет пока сильнее всего.
Не прошло еще и детство. Политические дебаты сменялись шутками и розыгрышами, которые были тогда в большом ходу.
ОБ ОДНОЙ ШУТКЕ
...В Женеве, во время ваката, я познакомилась с Ткачевым, который незадолго перед тем эмигрировал из ссылки в Псковской губернии. На политические темы мы вскоре объяснились. Его заведомое якобинство претило нам... Но он был очень веселым человеком и приятным собеседником, с которым можно было стоять на товарищеской ноге. Мне лично всегда было весело и легко в его компании...
Был тогда некий полковник Фалецкий, приехавший за границу для того, чтобы, как он говорил, основать эмигрантскую кассу... Полковник был переполнен сознанием важности предстоящего ему дела и трезвонил о нем повсюду. Он шушукался кое с кем из старых эмигрантов, и даже был составлен устав, который полковник предполагал отвезти в Россию. Время возвращения уже приближалось, а вместе с тем различные опасения стали волновать полковника. Направо и налево, всем по секрету, он сообщал, что боится быть арестованным на границе потому, что уж наверное правительство осведомлено о его сношениях с людьми скомпрометированными... И вот гениальная мысль осенила нас. После некоторого совещания я и Ткачев отправились ко мне и сочинили письмо, которое гласило приблизительно следующее:
«Милостивый государь! Я не знаю Вас, и Вы не знаете меня. Но я должна предупредить вас: Вам грозит опасность. На русской границе Вы будете задержаны, обысканы и арестованы. Приходите сегодня в восемь часов вечера на остров Жан-Жак Руссо. На скамейке под деревом Вы увидите даму под зеленой вуалью: от нее узнаете все подробности. Благожелательная незнакомка».
Подметное письмо через окно было подброшено в комнату. Потом мы поспешили к студентке Като Николадзе (сестра литератора) и, посвятив в нашу затею, попросили нацепить на себя зеленую вуаль и быть в восемь часов в условленном месте на острове Руссо. Като с восторгом согласилась принять титул княжны Чавчавадзв и рассказать полковнику целую историю о том, что в отеле де Вилл у нее есть приятель-швейцар, который от сослуживца, заведующего отделом наблюдения за русскими, узнал, что в Женеве проживает некий Фалецкий, находящийся под слежкой агентов русского правительства. Как только Ф. доедет до Эйдкунена, он будет схвачен и арестован...
Свою роль Като выполнила блестяще: захлебываясь от смеха, она рассказала нам, что все шло как по маслу и она оставила полковника в каталептическом состоянии ужаса и огорчения.
Однако нашелся кто-то и говорит: «Да что это за Чавчавадзе? Что это за княжна такая?» И посоветовал сходить за справкой к Элпидину. Элпидин, шестидесятник, уже много лет проживал эмигрантом в Женеве и имел кое-какие связи в городском управлении и местной полиции. По временам ему удавалось выуживать кое-что у своих знакомцев по части наблюдения за русской колонией. Догадался ли Элпидин или иным путем, но он добрался, несмотря на зеленую вуаль, до веселой Като, а потом до Ткачева и меня...
Вера Фигнер «Студенческие годы». 1929 год.
Петр Никитич Ткачев, публицист и литературный критик, один из редакторов «Набата» — эмигрантской газеты якобинского, заговорщицкого направления. В то время дом его, в котором верховодила его супруга, Александра Дмитриевна Дементьева, тоже революционерка, осужденная по делу нечаевцев, стал как бы филиалом женевских грузин. И вот, что тому послужило причиной: к Элиозишвили, который тогда жил в Цюрихе, нежданно-негаданно нагрянул его отец. Но что это было за явление!.. Богатый торговец шкурами (как тогда их называли в Грузии «куркчи»), человек неграмотный, но живого ума и действий, прослышал в Тбилиси, что пошла теперь мода отправлять девиц за границу на обучение. Недолго думая, подхватил он свою 15-летнюю дочь Пепо, несколько бурдюков отменного вина и отправился в путешествие к сыну. Уму непостижимо, как проделали они путь из Грузии до Швейцарии, не зная ни слова ни на одном ялыке, кроме грузинского. Александр пришел в ужас: что он будет делать с сестрой? Написал в Женеву, Олико, о случившемся. Девушки посоветовались и решили взять Пепо под свою опеку. Не возвращаться же ей обратно!
И вот «куркчи», которого звали поэтическим именем Ия (фиалка), появился с Пепо на пароходной пристани Женевы. Грузины шумно встречали их. И вместе с грузинами, охочий на подобные экстравагантности, П. Н. Ткачев. Тут же, на пристани, была распита вместе с Ией большая доля кахетинского, и Ткачев торжественно объявил веселому купцу, что берет Пепо к себе в дом на житье и обучение. Так Пепо, опекаемая всей грузинской колонией, зажила в Женеве в семье Ткачевых. Вскоре хорошо заговорила по-русски, а через год стала наборщицей «Набата».
А сколько духовной пищи получила Олико от общения с французскими коммунарами и, прежде всего, с главою их швейцарской эмиграции Лефансэ! Введенные в его гостеприимный дом Львом Мечниковым, грузинские девушки ходили туда запросто. Ну и, конечно же, посещали все заседания местной секции Интернационала.
Не имея представления о подлинном имени старичка-сапожника «Пэр-гайара» («отца-весельчака»), который обслуживал по субботам эти заседания, Олико очень подружилась с ним, добывала ему заказчиков для починки обуви и только позже узнала, что ее старый дружок не кто иной, как крупнейший деятель Парижской Коммуны Симон Дерер.
Был ее другом и тихий задумчивый коммунар Монтель, и даже не столько он, сколько его сын Поль, которого она в шутку произвела в свои пажи. Много лет спустя, в 1930 году, в Харьков на Всесоюзный математический конгресс, участником которого будет сын Олико, Георгий, приедет гостем видный математик из Франции, сын парижского коммунара Поль Монтель. Они разговорятся о Грузии, обнаружат «корни» взаимной приязни, вспомнят своих родителей, их время...
Олико—Нико
Сентябрь, 1874 г, Женева.
В субботу мы были на интернациональном собрании. Там был один коммунар. То есть там их было много, но один особенно бросался в глаза. Сначала только тем, что мне понравилась его физиономия. Действительно, у него необыкновенно умное лицо, хотя через этот ум проглядывало что-то мошенническое, нечистое. Я начала за ним следить. Говорит он тоже лучше и умнее всех, но манера держать себя совершенно такая, как у тебя. Когда другие говорили, а он слушал, я думала, что это ты сидишь там, в углу. Вид у него такой, будто он ничего не слышит: то царапает на бумажке, то рисует на стенке, но по временам взглянет на говорящего исподлобья с какой-то ехидной, насмешливой улыбочкой. Тогда уж убедишься, что он все слышал, все взвесил, ничего не упустил.
Я за ним следила, как кошка за мышью, и мне кажется, что я его теперь знаю насквозь. И ужасно хочется мне познакомиться с ним, чтоб проверить свои впечатления. Когда я сказала Анне Владимировне о его сходстве с тобой, она согласилась со мной. Только манера говорить у него не такая, как у тебя: он говорит ужасно громко, горячо. Просто искры сыплет!..
...Насчет твоей последней статьи. Ужасно я не люблю, когда ты пишешь такие ругательные личные статьи. Меня всегда разбирает досада. Отчего тебе приходится писать подобные вещи? Это недостойно тебя.
Прощай, некогда больше. Олико.
Нико — Олико
Сентябрь, 1874 г. Париж.
...В моей статье не все лично. Есть вещи очень и очень общие, которые нельзя высказать иначе, как в применении к кому-либо. Попробуй высказать некоторые мысли в общей форме, и ты увидишь, что такое цензура. Между тем, в применении к X. это проходит и оставляет следы, даже врезывается в память. Это раз.
Во-вторых, очень важно держать всю эту сволочь в страхе и трепете. Они сильны числом, сильны правительственной властью, кредитом, у нас же ничего нет: нет многочисленных друзей, нет партии, нет денег, войск и нет кредита, или его очень мало. Мы в этом мизерном положении не можем пускать в ход тяжелую артиллерию доктринерских, философских статей. Нам, как всяким слабым отрядам, возможен лишь партизанский способ ведения войны. В чем он состоит? А в том, чтобы нападать более или менее врасплох: сегодня на одно крыло, завтра на другое, там отрезать дорогу, там взорвать мост, в третьем месте устроить фальшивую тревогу и т. д. Таким образом ничтожные числом отряды обескураживают и обессиливают громадные армии. И без большой потери людей и сил возможно биться таким образом целые годы. Ничего более не остается в нашем тяжелом положении. И для борьбы «зарезать» или осмеять сегодня одного служителя порядка, завтра — другого, послезавтра — сразу трех-четырех — далеко не так бесполезно, как ты думаешь. Это убавляет их силы и придает нашим силам какую-то фантастическую окраску. Ведь почему регулярным войскам обыкновенно кажется, что против них бьются не 100 или 200 человек партизан, а целые десятки тысяч?
В-третьих, наконец, просто приятно иной раз выдрать за уши попавшегося дурака. Тем более, когда такой дурак попался в гнусной истории доноса по начальству.
В скором времени я собираюсь казнить второй экземпляр кутаисских гадин. Ты, конечно, возмутишься, но, друг мой, верь, что публика читает и помнит не философские трактаты, а живые и бойкие статейки. Ей нужен бой быков!
Кстати, о философии. Сегодня я был у Эмиля Жирардена, с которым провел почти два часа. За подобные часы жизни можно отдать целые десятки лет. Ты не можешь себе представить, как приятно, как божественно хорошо говорить с человеком свободомыслящим, не ищущим эффекта, добивающимся лишь правды и логики!.. Эта своеобразная дуэль здравого смысла и знания развивает человека в четверть часа больше, чем иные двухгодичные труды в кабинетах.
Жирарден гениальный журналист настоящего столетия. Он купил на днях газету «Франс», которую берет в руки с ноября. Мы говорили обо всем на свете по этому поводу, и мне кажется, что в некоторых вопросах мы могли бы спеться. Я ему возвестил величайшую победу: вчера Бернский Почтовый Конгресс принял вполне его теорию, которую он проповедует с 1836 года, — об единстве почтовой таксы между всеми государствами Европы. Он еще не знал этой новости и чуть не заплакал от радости. Повел меня осмотреть свой рабочий кабинет, библиотеку и т. п. Показал портреты с надписями: «А мон ами Эмиль де Жирарден», присланные ему Примой, Грантом и т. д., портреты мертвой Рашели и т. д. И пошла нескончаемая беседа о всех этих людях и об их прошлом...
Как жаль, что у этого человека на совести несколько таких мерзостей, как изобретение кандидатуры Наполеона III-го и его избрание, изобретение Эмиля Оливье и его торжество и т. д. Не будь этих вещей — искренних ошибок, но все-таки ошибок — он был бы одним из величайших людей Франции. Увы, не все без пятен, и без страшных пятен!..
Нико был верен себе. Ни от каких дел своего родного края он здесь, в Париже, не отошел, не мог отойти, если б даже и хотел. Беспокойная кровь текла в его жилах — кровь боевого публициста. И он продолжал искать общений с интересными людьми, продолжал упражнять свой мозг в спорах и беседах и, конечно, писать в свои тбилисские газеты.
Он стал писать в «Тифлисский вестник», неправительственную, частную русскую газету, недавно основанную либералом, бывшим поручиком Котэ Бебутовым. Устраивало Нико хотя бы то, что официозная газета «Кавказ» при появлении «Вестника» тотчас настроилась против него. Раз так, Нико мог проталкивать на ее страницах свои «левые» идеи.
Иногда на него нападали периоды самобичевания или, скажем, просто — бичевания. Казалось, он был прав в своих злых раздумьях, в своих уничтожающих характеристиках. Прав хотя бы в том, что люди, которые его окружали, не были сплочены. Прогрессивные и светлые идеи — этого для борьбы маловато. Нужны организованность и дисциплина.
Но процесс шел, силы накапливались, все главное было впереди. Нико в это верил. А иначе для чего было жить и скрипеть пером?
Нико — Олико
Сентябрь, 1874 г. Париж.
Я так и знал, дорогой мой дружочек, что все эти дрязги произведут на тебя такое впечатление. Но твое теперешнее разочарование основано на том, что ты очаровалась без достаточного основания. Ты приняла за чистую монету все те достоинства, которые мы себе приписывали, и привыкла смотреть на нас, как на людей испытанных и сильных. Между тем, как мы — простые смертные...
Для того чтобы твердо и долго стоять на той высоте, на которую нас что-то вскарабкало, нам следовало иметь не только добрую волю держаться на ней, но закаленный характер и сильное умственное развитие. Ни того, ни другого в нас не хватало. Большая часть из нас были круглые невежды. В нашем кружке требовалось только вызубрить катехизис безупречного социалиста, т. е. прочесть «Что делать?» и — делу конец. Мы ни от кого из наших не требовали ни солидных знаний, ни эрудиции, ни знакомства с литературой, т. е. с сердцем человеческим, ни исторических знаний, т. е. способности быть судьей самому себе и окружающим событиям. Мы были настолько глупы, что даже не требовали преданности и труда, т. е. души и сердца.
— Предоставим фактам свободу! — думали мы.— Будем брать от всякого то, что он может дать!
Вот и набрались у нас друзья... И кто только не был нашим другом?! Церетели бесконечно умнее, талантливее и добросовестнее всех других, и я часто рисовал ему опасность и бессмысленность подобного подбора. Но все это приписывалось деспотизму моей натуры и черт знает еще каким мобилям...
Я положительно рад, что мы разошлись теперь. Приключись какой-нибудь скандал вроде прошлогодней семинарской истории, и забери нас в лапы жандармское начальство, наш процесс вышел бы глупейшим приложением к процессу петербургских нигилистов. В страхе и трепете за шкуру или за спокойствие родителей и приятельниц большая часть из нас начала бы выкладывать признание в таких злодеяниях, каких ни у кого из нас и в мыслях не бывало! И пошла бы катавасия с неизбежными обличениями друг друга... Я положительно не знаю, кто бы из нас устоял перед такого рода искушением.
Между тем, издали мы казались тесно сплоченной массой развитых тружеников «дела». Мы сами так смотрели на себя. И все те, кто издали видел нашу работу, приписывали каждому из нас всевозможные доблести и добродетели. Вот почему такие наивные души, как ты, ждали от нас не только разумности, но и героизма. А в сущности, когда мы очутились на пробном камне, мы оказались слабенькими и пошленькими натурами без разума и знаний.
Но разочаровываться вследствие этого было бы еще наивнее, чем очаровываться без оснований. Если твои друзья не сумели достичь счастья, из этого не следует, что надо падать духом и отказываться от усиленной работы над собой. Они только потому и оказались тряпками, потому провалились, что недостаточно работали над собой, не сумели поднять свою душу и мозг.
Ручаюсь тебе, что я сам задавал себе два-три раза такие вопросы. Но это было давным-давно, в 1862 году. Но я нисколько не сконфузился тем, что бывшие наши друзья по студенческой истории стали акцизными чиновниками и благонамеренными гражданами. Я сказал тогда себе: «Тем хуже для них!». И пошел своей дорогой. Убежден, что то же самое сделаешь и ты, если ты этого уже не сделала. Ты подумаешь, да и решишь: «Если Нико, или икс, или игрек, будут слабыми либо пошлыми людьми — тем хуже для них. Я же постараюсь сделать все возможное для того, чтобы не впасть в помойную яму, в которую они провалились по глупости своей или пошлости!».
В другом письме он описывал общество своих соотечественников, которые столовались у одной парижской хозяйки.
— Собираются двенадцать человек, садятся все вместе,— писал он,— и все одинаковым образом дуются, как индюшки. Каждому хочется, чтоб все остальные смотрели только на него, считали только его небесным созданием. В течение трех месяцев я не слышал от них ни одного человеческого слова, ни одного движения мозга. Никто не думает ни о том, что делается, или что надо сделать на родине, но даже (о срам и стыд!) и не о том, что творится под носом, здесь же, в Париже... У всех шкура сделалась такая впечатлительная, что упаси боже взглянуть косо на кого-нибудь, упаси боже сказать словечко вкривь или улыбнуться даже мысленно!.. Не знаю, что может быть общего с людьми, которые ничего частного не имеют, кроме личного «я», суженного до микроскопических размеров. В таком обществе можно опошлиться и изгадиться, не замечая этого. Во всяком случае, можно привыкнуть к такой жизни, а это — хуже смерти, ибо тут хоть и сохраняется тело, но вымирают мозг и характер.
— Можно считать,— писал он,— современное общество отвратительным, современных людей дрянными и все-таки мыслить и работать для тех поколений, которые народятся. Если в теперешнем обществе всего 1% хороших людей, то в будущем, лет через 10—20, будет уже 2%, а лет через 50—100 — целых 10 или 15 процентов. Шутка разве это? Это закон прогресса и, черт возьми, глупо не надеяться на него, когда на все остальное надежды плохи...
И как ни дулся наш Нико на своих товарищей из «Дроеба», а все же читал ее в Париже ревнивым глазом и не без радости отмечал, что с возвращением Сергея Месхи газета стала несравненно лучше. И возмущался тем, что никто из парижских грузин ее не поддерживает (а сам-то!), не пишет в нее. Ведь какой можно было бы поднять в газете тарарам в связи с городскими выборами в Тифлисе, как «сыграть» на пожаре в театре...
У него тосковали руки по письму на родном языке, душа рвалась на страницы этой газеты, которая из всех тбилисских газет, конечно, была для него самой дорогой. Но самолюбие не позволяло идти на поклон...
Нико — Олико
Октябрь, 1874 г. Париж.
В словах Чикваидзе об отвращении наших петербургских студентов участвовать в «Дроеба» есть нечто особенно неосновательное: это их утверждение, будто участвовать в «газете Месхи» значит марать свое имя. Я понимаю, что зазорно участвовать в газете с известной нечестной тенденцией. Зазорно участвовать в «Московских ведомостях», в «Голосе» и т. п. Но участвовать в «газете Месхи», где каждый сотрудник волен проводить какие ему хочется теории, где редакция и понятия не имеет о тенденциозности, где сплошь и рядом два сотрудника проводят диаметрально противоположные взгляды, — воля твоя, это не так-то позорно, как сидеть в углу и видеть, как все идет вверх дном. Это во-первых.
Во-вторых, все эти петербургские студенты сразу желают, чтоб их писания принимались за слова самой истины. Между тем, никто из них, за исключением двух-трех, не написал еще ни единой строчки и ничем решительно не доказал, что имеет не то, чтоб талант, не то, чтоб познания, а просто обычный навык к письму. Напишет какой-нибудь Б. статью в двенадцать столбцов о предметах решительно ни для кого не интересных и сердится потом, что редакция осмелилась сократить его. А его товарищи, не читавши рукописи, верят ему на слово, что редакция «искалечила его статью». Это факт. Но слушай дальше. Оказалось, что эту статью, писанную с ребяческим либерализмом, исправляла не редакция, а цензура. Чтобы знать, что такое цензура, попробуй сравнить мое «Письмо с Того Света» с рукописью, присланной тебе. Ты увидишь, что остается в печати из того, что написал автор.
На сердитое письмо редакция (т. е. Месхи) пишет: «Господа, бога ради, знайте, что мы пишем под законами цензуры! Принимайте же в соображение, что вы пишете для «Дроеба», а не для «Нью-Йорк трибюн»! Новый гвалт: он-де нас учит, как писать!
...Они видят, что Месхи... трудится не щадя сил и приносит какую ни на есть пользу. Это колет глаза всем гениям в своих собственных глазах. Они подозревают в себе всяческие способности и познания, все мыслимые добродетели и все-таки видят, что их добродетели плюс познания, плюс способности не могут перевесить на весах жизни той пользы, которую выполняет «бездарный», «незнающий» Месхи. Но из этого я вывожу совсем другое заключение и думаю, что Месхи, в сущности, добродетельнее, даровитее, ученее воображаемых гениев. И только...
Подходил к концу 1874 год. Нико перестал звать к себе Олико. Они с Ботей обзавелись хозяйством, питались дома Постепенно все это стало походить на семейную жизнь.
А Нико все же было как-то грустновато. Ей-ей, его письма не походили на письма счастливого человека. Может быть, они с Ботей устали от борьбы с нуждой? Заложены были костюмы, Ботины платья, часы. Однажды было так: Нико отправился к одному капиталисту в Гранд отель, оттуда они поехали к М., не застали его дома, и ни о чем не ведающий капиталист попросил завезти его обратно в гостиницу. Нико остался с экипажем без гроша в кармане. Поехал к И., чтоб занять денег и расплатиться, — нет дома. Поехал к П. — у него нет денег Вместе с П. поехал к Т. — нет дома, Наконеа у 3. достал, выпросил в долг. Пришлось заплатить извозчику в четыре раза дороже...
Вот так жилось Нико. Олико знала об этом. Он ей все писал, не щадил ее. А в письмах Олико ничего подобного не было, потому что она не любила жаловаться. И все же ее письма к Нико выглядели какими-то вымученными, будто она пытались выдавить улыбку, да не очень-то это получалось...
Олико —Нико
Декабрь, 1874 г, Женева.
У нас целую неделю праздники, и знаешь, чем мы все думаем заниматься? Набрали пропасть тетрадок, и все будем списывать — от мала до велика. Как хочешь, картина умилительная: столько писарей под торжественный звук церковных колоколов! Сегодня целый день спозаранок так звонят, что утром спать было нельзя.
Ах, у нас недавно была история действительно умилительная: мы все за обедом чем-то отравились, и в четыре часа ночи всем подвело животы. Как сошлись на другой день, всякий и рассказывает про себя. И какие тут были сцены — ни пером описать, ни словами передать... А у вас ничего подобного? От того, верно, и скучно.
У нас еще одно увеселение — снег. Такой снег, что на санях катаются. И мы имели счастье покататься на санях, если это можно так назвать. Знаешь, на трамвайной дороге. Катались всего час, но было так весело, что прелесть!
Теперь ждем елку на Новый год. Это уж будет, так сказать, семейное счастье и веселье. Вот тебе о нашей обыденной (и единственной!) жизни. Прощай, дорогой мой. Ботя свинья! Олико.
Нико — Олико
Декабрь, 1874 г. Париж.
Давно нет никаких известий с Кавказа. Мои дела скверны. То есть так скверны, как никогда. Первое января на носу, и я решаюсь бросить «ткибульское дело». Надежды на успех уж очень мало. Для верности следовало бы сказать: надежды н е т.
Мне надо поехать на Кавказ, свести концы с концами, попробовать рассчитаться со всеми, кому я должен, и приняться за что-нибудь другое, более успешное и менее тяжелое. Это чертовски трудно, и я не вижу ничего конкретного, что могло бы вывести меня из этого затруднения. Нужно иметь, по крайней мере, 1.000 франков на дорогу и на подъем отсюда. Но как оставить здесь Ботю, одну, без средств? Да вас всех в Женеве тоже без гроша? А между тем так тянуть дальше нет человеческой возможности...
Что же делать? Как избавиться от всех затруднений? Пустить пулю в лоб, и баста? Но глупо дойти до такого малодушия и дать друзьям и врагам право говорить: «Во всем Николадзе был виноват: все заварил он...»
У вас елка, Новый год, веселье, хохот, словом, все, чего может желать молодая жизнь. Поздравить тебя? Желаю тебе всего-всего того, чего мне не дано было найти в этой жизни, то есть — не только доброй воли, не только энергии, но и счастливых обстоятельств и верных друзей, и сподвижников. Все перемелется — мука будет...
Секрет заключается в том, чтобы иметь возможность на время «отупеть», вооружиться броней, о которую скользило бы все неприятное, гадкое, не задевая внутренней жизни мозгов. Пусть нападают, смеются, клевещут — все пройдет, все переменится. Если человек сумел под влиянием этих минутных неприятностей не испортиться, он сделает свое.
Так зимой избавляется река от мороза, покрываясь легким слоем льда. Под этим слоем вода течет и чище и спокойнее и дает жизнь всем рыбам к растениям. Хоть подо льдом и накопились нечистоты, хоть реку и топчут люди и скот — придет весна, лед провалится, и река явится такой же сильной, как и до зимы Вот тебе секрет вечно действующих сил природы, а, следовательно, и моральных сил человека. Это единственный подарок, который я могу сделать тебе к Новому году...
Год 1875-й
К началу 1875 года в Женеве появился еще один беглец из России. По описаниям Веры Фигнер, высокий, тонкий юноша «с характерно вытянутой несколько вперед головой. Красивый румянец ясно говорил, что ему всего двадцать лет; милые, детские губы чуть-чуть прикрывались темными усиками, а из-за очков смотрели ласковые и кроткие карие глаза». Это был Николай Морозов, уже тогда разыскиваемый правительством «опасный заговорщик», один из тех, чья фамилия с приметами появилась в полицейском списке, опубликованном во «Вперед». Он был сыном крепостной крестьянки и богатого помещика. Очень рано стал интересоваться естественными науками. Морозов по чистой случайности попал в кружок «чайковцев» и после короткой, но сильной борьбы — кому отдать себя, науке или революции? — выбрал последнее. Потом была неудачная попытка на одной из московских улиц отбить у жандармов товарища. После чего надо было уже спасать Морозова. Его отвезли в Петербург, на Васильевский остров, к курсистке Анне Эпштейн, которая имела связи с людьми, переправляющими революционеров за границу.
— У Эпштейн мы застали большое собрание кавказской молодежи, — пишет Морозов в «Повестях моей жизни».— Все это оказались чернобородые люди с орлиными носами, черными горящими глазами и оживленными лицами. И сама Эпштейн была худенькая брюнетка, маленькая, как пятнадцатилетняя девочка, со слегка курчавыми волосами и огромными глазищами. Она очень приветливо встретила меня, отрекомендовала мне горцев, среди которых оказались видные деятели последующей стадии движения: Чикоидзе, Джабадари и, насколько припоминаю, также и Зданевич, отличавшийся от остальных кавказцев своими белокурыми волосами.
Расспросив нас о Морозове, товарищи возобновили свой спор по какому-то теоретическому вопросу, сильно жестикулируя и в горячности постоянно переходя на свой родной язык, в котором мне запомнилось постоянно употребляемое слово — «ара! ара!». Оно, как я потом узнал, обозначало по-ихнему «нет! нет!». Весь следующий день я провел главным образом между захватившими меня ночевать кавказцами, наперерыв звавшими меня, как только возвращусь из-за границы, непременно приехать прямо в их горные ущелья...
Николая Морозова переправили на ту сторону в одежде еврейской девушки. В Женеве он должен был помочь в редактировании эмигрантского журнала «Работник». По натуре своей непритязательный и застенчивый, он стал жить прямо в типографии, коротая ночной отдых на кипах бумаг. Колония россиян отнеслась к нему с большой симпатией. Широко раскрыл ему свои объятия и Лефрансэ, называвший Морозова «вечным путником» за вечную переметную суму через плечо. Спустя некоторое время Морозов стал членом Интернационала, его центральной секции Парижской Коммуны.
О ГРУЗИНСКОМ ТРИО
Когда я еще не был членом Интернационала и приходил на его заседания в качестве гостя, я почти всегда видел там молодое трио из юных девиц, сидевших обыкновенно как раз против меня на другой стороне залы собрания. Одна из них — молодая грузинка, которую мне назвали княжной Гурамовой, — была особенно эффектна своей поразительной южной красотой. Ей было не больше семнадцати лет. Среднего роста, с полным, бюстом, но тонкой талией, она сидела между подругами и восторженно следила своими большими черными глазами за пылкими речами Шалэна, который, по-видимому, говорил всегда исключительно для нее, хотя они и не были лично знакомы друг с другом.
Вторая из трио была имеретинка Церетели, высокая стройная шатенка, с замечательно милой, умненькой. приветливой головкой. А третья была Николадзе, сестра известного грузинского писателя. Она не была красива, но явно играла у них руководящую роль.
И вот все это молодое трио, на которое я часто заглядывался, было представлено в группе молодежи, просившей Тверитинова познакомить меня с нею. Все тотчас обступили меня и начали расспрашивать о моих приключениях в народе и о выводах, к которым я пришел в результате этой пропаганды. Они с величайшим вниманием слушали мои рассказы.
— Мы все очень сочувствуем этому,— сказала мне Церетели, когда я окончил первый свой рассказ,— но мы любим также и науку. Для нее мы приехали сюда, и теперь жалко с ней расстаться.
— Да и со мной было то же самое, — ответил я,— мне тоже очень трудно было расстаться с нею.
— Неужели?! — радостно воскликнула она. — Значит, вы не отвергаете науки?
— Нет, конечно, нет.
С этого момента мы сразу стали как будто давнишними друзьями.
— Из нас троих только одна Като, — сказала Церетели, кивая на Николадзе, — уехала сюда из дома при сочувствии родных. Меня едва-едва пустили, да и то лишь вместе с Като...
— А я, — сказала Гурамова своим музыкальным голосом, — даже просто убежала из дому...
— Вы никогда не поднимались на горы? — спросила меня в конце вечера Гурамова.
— Нет! — печально ответил я.— Из эмигрантов никто не ходит в горы, все мне говорят, что надо подождать весны и что теперь нельзя забраться даже на Салев. Провалишься в снегу в расселину, и никто не найдет до весны.
— А может быть, и можно! — воскликнула она. — Попробуем завтра! Взберемся, насколько окажется возможным.
— Да, попробуем, — сразу присоединился я к ней, от всего сердца радуясь, что нашел себе, наконец, компаньонов для путешествий. Горы уже давно непреодолимо влекли меня к себе.
В следующий же день, едва настало утро, я вышел вместе с этими тремя восхитительными девушками из предместьев Женевы к подножью возвышающегося над нею Салева. Они, как истинные горянки, проведшие детство в кавказских долинах, очень любили природу.
— Побежимте! — воскликнула Церетели. — Здесь никто не смотрит на нас!
И мы пустились наперегонки, пока у более слабой Като Николадзе не захватило дух до такой степени, что она наконец села на камень.
Все выше и выше поднимались мы по крутой тропинке, на которой снег был почти очищен бушевавшими ветрами. Мы находились на северном, теневом склоне горы, и солнце было закрыто ее вершиною. А внизу, за пределами ее гигантской тени, яркие лучи заливали все огромное голубое пространство Женевского озера, ближайшие заливы которого, вместе с вытекающей из него лентой Роны стали вырисовываться, как на карте. Город был далеко внизу, словно на плане, и его высокие здания как будто прижались к поверхности земли. Мы взобрались наконец на перевал, в седловину между двумя соседними вершинами, и разом ахнули от восторга перед открывшейся картиной.
Перед нами, весь покрытый белой пеленой снега и залитый солнечными лучами, расстилался отлогий южный склон Салева, медленно понижавшийся по мере удаления от нас и затем обратно поднимавшийся вверх, образуя вдали на фоне голубого неба мощную белую вершину, сияющую под лучами солнца и бросающую вниз голубоватые, огромные зубчатые тени.
— Монблан! — воскликнули мы все вместе, уже зная, что он прекрасно виден с Салева. Мы долго стояли неподвижно и смотрели вдаль, не говоря ни слова..
Н. Морозов. «Повести моей жизни», 1912 г.
Николай Морозов очень подружился с грузинским трио и, как он вспоминает, часто присоединявшейся к ним Анной Домбровской. Вместе ходили они на прогулки, вместе — на заседания Интернационала, которые происходили во флигеле за одним из женевских ресторанов.
— Когда у меня было слишком тяжело на душе,— пишет Морозов,— я убегал к кому-нибудь из них, и их свежие молодые души вносили свой свет и в мою.
Девушки чувствовали себя с ним непринужденно, болтали о природе, о всяких пустяках. Давно уже прошла у них скованность, они стали легки в общении. На иного ханжу они даже могли производить впечатление милых, но несерьезных девчонок. Как-то считалось тогда, что ученые девицы, студенты, должны себя держать особо, как говорилось тогда, куражу на себя напускать. Но Олико терпеть не могла ничего напускного — смеялась и дурачилась, когда хотелось смеяться и дурачиться, задумывалась, когда появлялось для этого основание.
Олико — Нико
Февраль, 1875 г. Женева.
Я совершенно согласна с тобой относительно «Работника» насчет одной стороны вопроса — что они не предоставляют там работнику хорошего будущего, не предоставляют идеала, который они должны стремиться достигнуть. Это, по-моему, недостаток не только «Работника», но и всех книг, написанных в этом духе. Везде одна и та же история: скверно, мол, братцы, нам живется, виной всему этому царь и бояре, нужно их прогнать, чтоб земля была общая, и тогда заживем хорошо. Вот, приблизительно, содержание всех этих книг. Но нигде ни слова не говорится, как они устроят эту землю.
Знаешь, они, т. е. эти пропагандисты, даже между собой не хотят высказываться по этому вопросу, как будто боятся, что вот-вот рассорятся между собой, если заведут об этом речь. Сколько я ни спрашивала их по этому поводу, они отвечают одно и то же: земля будет принадлежать крестьянам, а там они сами знают, как справиться с ней, как ее устроить.
Да нет, они не знают. Это вам знать да научить их! И даже не научить, а просто вы должны будете сами и устроить, а значит, постараться забрать власть в свои руки. Но — боже упаси! — как только ты произносишь слово «власть», да еще «в свои руки», зажимают тебе рот и налагают печать молчания. Я убеждена, что каждый из них думает то же, но боится высказаться. Не верю я, чтоб анархисты были искренне убеждены, что народ после революции вдруг озарится разумом свыше и сам сумеет устроить свои дела — народ, которому они не стараются теперь рисовать никакого идеала. Впрочем, если они хотят революцию лет через 200—300, то к тому времени, может, они разве и подготовят народ так, чтоб он сам сумел устроиться. Но нет, они говорят, что революция уже на носу и нужно этого желать, чтоб она произошла как можно скорее, хоть сегодня же, ибо ждать больше нет мочи. Народ вырождается, деморализуется. В таком случае они должны рассчитывать, что, прогнав царя и бояр, сами возьмут власть и устроят все дела Другой логики я не могу постичь. И я действительно нахожу даже, что это нечестно с их стороны, что они теперь же не хотят высказываться, спеться по этому поводу. А то, положим, что они революцию сделают, а затем начнут сами ссориться между собой, и будет история, как и все другие. Они говорят: наше дело разрушить, а строить будут другие. Кто же другие? Курам на смех!
Но я не согласна с тобой насчет того, что ты пишешь о «Работнике», что он никакой пользы принести не может, если просто будет перечислять все гнусные факты правительства и представлять — вот, мол, как вам скверно живется. По-моему, это тоже очень важно, и скажу даже, что в этом и есть дело газеты.
Ты говоришь, что народ и без них знает. Да нет, не знает, ибо он не возмущается. Если знает, что ему скверно, то зачем же тогда какие бы то ни было книги, или газеты, или пропаганда и агитация? Значит, все это лишнее?
Я же нахожу, напротив, что даже выставление голых фактов тоже очень важно (конечно, голых фактов, освещенных известным колоритом). «Работник» так и делает: выставляет им факты и старается показать, что, мол, отдельными вспышками ничего не сделать, а нужно соединиться и вместе восстать. И тогда успех неминуемо на нашей стороне И вот я нахожу, что в этом отношении «Работник» ничего себе. Что же касается громких фраз, то, напротив, когда мы прочли, сейчас же нам бросилось в глаза именно отсутствие всяких фраз, особенно по сравнению с «Вперед».
Я показала твою критику одному из редакторов (конечно, не сказав, от кого). Он сказал: «Должно быть, этот господин не был последнее время в России и вообще не знает, что там делается» Но насчет того, что я писала в начале письма, он призадумался, и до сих пор у нас с ним не прекращается разговор. Да он и сам согласен с тобой на этот счет.
Один из редакторов газеты «Работник» это, конечно, Николай Морозов. «У нас с ним не прекращается разговор». Это, конечно, тоже о нем. Так что не только пустячки были примером общения между Морозовым и грузинским трио... Но сколько бы новых интересных и значительных людей ни возникало перед Олико, как бы ни занимали они ее воображение, она все же продолжала умом и сердцем тянуться к Нико. Письма, однако, писались все реже и реже и личного, бытового в них становилось все меньше и меньше. Так складывалась жизнь: там, в Париже, — одни заботы, здесь — другие.
Олико просто не хотела сообщать своему другу, как они с Като и Машико материально бедствуют и выкручиваются. Все равно помочь он им ничем не мог. Машико поступила наборщицей в «Работник», Олико и Като подрабатывали на жизнь уроками в богатых семьях русских дипломатов.
Олико—Нико
Февраль, 1875 г. Женева.
Если бы ты видел теперь наше житье-бытье, как мы вчера все устраивались! Положительно, со смеху можно помереть... Мы решили, что нужно быть экономными И с этой экономией и практичностью у нас такие анекдоты, хоть в газеты печатай. Однако хорошо, что теперь все живем вместе: Като, я и Машико в трех комнатах. Но если бы ты видел, как у нас устроены эти комнаты, тоже со смеху умрешь... Посреди «залы» стоит старая развалившаяся печь. Так что, когда хочешь повернуться, то непременно должен задеть за ту печь; и затем сейчас же схватиться за щетку и приняться за чистку платья. Как только отворяешь дверь залы, перед тобой красный балдахин, она же и клетка для канареек. Это наша спальня. И в этой клетке наши кровати, а в кроватке — мы сами, т. е. канарейки, или, pardon, вернее, тараканы...
Нико и то стал чувствовать, что наполнять письма бесконечными жалобами о кредиторах и мелких сторонах жизни больше невозможно. В желчном расположении духа, он поносил эмигрантскую прессу. Но, не решаясь вынести это на открытый суд из чувства своей (хотя бы и прошлой) причастности к этой прессе, он изливался в письмах к Олико.
В его суждениях о выходящих за рубежом русских газетах и журналах народнического направления были и логика, и здравый смысл, и собственные интересные мысли. Но общий тон выдавал в нем человека раздраженного и ложносамостоятельного.
Впрочем, как легко нам сегодня судить об этом! В жизни каждого человека бывают и подъемы, и спады, и просто заблуждения. Важно, чтобы желания не остывали и горел разум. А разум Нико горел, не остывал. Хотя бы даже по поводу П. Лаврова и его «Вперед» высказано им много таких суждений, которые буквально предвосхищали появление в России организованной боевой революционной партии социал-демократов.
Нико — Олико
Март, 1876 г, Париж.
Получил «Вперед». Это гораздо умнее, чем «Работник», но и это глупо Вообще говоря, Лавров — человек мне решительно не нравящийся. Всю свою жизнь он провел в мышлении над немецкой философией. Мозги его сложились под влиянием школы Гегеля, но он никогда не шел дальше левой стороны этой школы и остановился на границе учений Бруно—Бауэра и К°, не доходя даже до Фейербаха. На этом пункте его расколотили Чернышевский и Антонович. И вдруг этот самый человек с давно сложившимися убеждениями является за границу и кидается в среду фразеров. Здесь он оставляет свои методы исследования и мышления о «конечных целях», о «познаваемом и непознаваемом» и принимается трещать с притворным пафосом и заимствованным лиризмом попугайные фразы. Это некрасиво и бессильно. Он, видимо, берет в пример Бакунина, против которого борется, заимствует у него его приемы, его пустые формулы: «Держите высоко ваше знамя!». Все это прилично накануне рукопашной битвы, но несвоевременно в теперешнем положении России.
Я понимаю, что накануне битвы нужно сделать все возможное для того, чтобы не оттолкнуть от себя никого из тех, кто может биться, и для того, чтоб привлечь к себе возможно более количество здоровых сил. Но где же этот канун? Несмотря на уверения твоего знакомого редактора «Работника», я убежден, что знаю Россию лучше, чем многие из мнимых революционеров, все знакомство которых заключается в посещении двух-трех студенческих кружков и двух-трех подгородных фабрик. Я знаю и кружки, и фабрики, но знаю, кроме того, и другие слои русского народа: чиновничество, офицерство, купечество и крестьянство. Я видел эти слои в критические моменты жизни и знаю, что они не только не готовы к движению, но и формально противны ему. Я знаю в совершенстве силы студенчества, молодежи и, изучив в течение четырех лет наилучших представителей молодежи, говорю по совести что эта молодежь ничего не может сделать и ничего, не способна предпринять, потому что она слаба и не подготовлена, поверхностна и мало искренна. Она не знает современной жизни, не имеет ясного и осмысленного понятия о средствах, которые нужно употребить, но, в особенности, о цели, к которой нужно стремиться. Она не сгруппирована, не организована, не имеет ни программы, ни руководителей, ни плана действий. Лучшие, искренние представители ее погибают в одиночку, худшие улепетывают на выгодные должности. И все топчутся на одном и том же месте. Между отдельными единицами нет доверия, нет подмоги, нет серьезной связи, нет абсолютной преданности делу, потому что само дело не выяснено, потому что сами единицы не развиты, потому что все это навеяно минутой, модой, взращено пустой фразой публицистов «Дела», «Народного дела», «Вперед» и т. д. Не такие силы, не такая молодежь может повлиять на судьбы миллионов народа!
Ты думаешь, мне приятно видеть и говорить это? Не лучше ли было мне думать в розовом виде и обольщаться надеждами? Совсем наоборот. Я попал на эту дорогу, запрягся в это дело и менять своей деятельности никогда не захочу. Но здравый смысл подсказывает, что наше поколеиие обречено судьбой погибнуть даром, потому что, как высказал Некрасов, «застигло нас великое время не готовыми к великой борьбе!..»
В этом отвратительном положении люди, подобные Лаврову, совершают преступление. Они должны были бы готовить людей раньше, чем звать их на борьбу. Они обязаны знакомить русскую молодежь с практическими способами разумной организации, внушать ей дух дисциплины, сознание путей, которыми следует идти, цели, к которой следует продвигаться шаг за шагом. И когда подготовится достаточное количество таких знающих, сильных людей, тогда можно будет подумать о том, как и где начать борьбу и как призвать к ней всех, кто может принять в ней участие. Ничего подобного не делают люди, поставленные в положение всех этих Лавровых, Бакуниных, Ткачевых, Жуковских и т. д. Напротив того, они подзадоривают и молодежь н правительство, и единственный результат их пропаганды заключается в том, что лучшие силы молодежи гибнут довременно в напрасных и мелких столкновениях, очень часто настолько глупых, что их погибель даже не может пригодиться как пример мученичества и героической борьбы.
Все эти господа проживают за границей без всякого дела вот уже десять с лишним лет. Вопрос: что они сделали за все это время? Ответ очень прост: они жужжали, барахтались, делали вид, якобы они сила. И только. И я полагаю, что для этого не стоило покидать отечество и окружать себя ореолом лондонских туманов...
Итак, Нико полон критического запала. И не только в адрес народников. Пока господа капиталисты, с которыми он безуспешно якшается по ткибульскому делу, разъехались из Парижа на пасхальные праздники, Нико дотошно изучает парижские газеты. Давно возмущают они его своим пустословием. Это ли та боевая французская пресса, у которой он столькому научился! Ныне ее не узнать — полный упадок. Только поет дифирамбы имущим власть
И Нико пишет по этому поводу памфлет, исследование, публицистическое эссе. Изобличает реакционные французские газеты в раболепстве перед правительством, которое «подкупом или раздачей теплых мест» делает эти газеты своим слепым орудием. «Прессу декаданса» издают в Париже отдельной брошюрой, Эмиль Жирарден публикует ее в своей «Ла Франс»... Ну разве не «жив курилка-журналист»?! И разве не актуально звучит эта цитата о буржуазной печати — всегда продажной, и тогда и сейчас...
— Написать эту брошюру было для меня делом абсолютной необходимости, — сообщает он Олико. — У меня накопилось столько больных замечаний, столько нужных истин (так все мы думаем о своих мыслях), что, не выскажи я их, у меня на сердце выскочил бы волдырь...
Между тем Олико, Машико и Като занялись проводами своего славного друга Николая Морозова и его не менее симпатичного товарища Николая Саблина. Эти активные молодые революционеры не могли больше оставаться в эмиграции Она их тяготила. Вместе они решили, что лучше действовать в России, чем находиться за границей в безопасности, но в добровольном изгнании.
Вся русская колония пришла на вокзал проводить двух Николаев, Грузинские подруги подошли к вагону с охапкой полевых цветов. Коля Морозов грустно поглядывает на девушек. Николай Саблин, красивый рослый юноша не более 23—24 лет, как всегда каламбурит, острит. Кажется, что он красуется, любуется собой, беспечен и ветрен. Это маска. Нет поступка благороднее, который он способен совершить ради товарища, ради дела. Угадывая в нем этот характер, девушки испытывают к нему огромную приязнь. Впрочем, это было взаимно. Заехав по пути на родину, в Берн, к Вере Фигнер, Коля Саблин послал девушкам веселые стишки:
Я вышел в поле. Ветры выли,
Неслися тучи надо мной,
И вспомнил я Гурамишвнли,
О ней скорблю больной душой.
Я в лес вошел. Шумели ели,
Летели листья на траву,
И вспомнил я о Церетели,
Ее душой к себе зову.
Пришел домой. Чего ж грущу я?
Скорблю ль о прошлом? Нет, не то!
Отрады в прошлом не найду я,
Я вспомнил о своей Като!
А Коля Морозов спустя десятки лет вспоминает об этом расставании так:
«Возвратившись домой, я написал длинное прощальное письмо моим юным женевским друзьям — Машико, Олико и Като, — так как лучшее воспоминание, оставшееся у меня от Женевы, были именно они со своей искренностью, любовью к науке и свежими душами, не помятыми жизнью. Мое письмо была целая поэма в прозе и заняло около тридцати двух страниц».
Не знали они тогда, что станется с ними и как жестоко распорядится ими судьба. Что веселый Коля Саблин в момент, когда перед ним появятся жандармы брать его за покушение на царя, прикончит себя выстрелом из револьвера. А Коля Морозов двадцать пять лет просидит в Шлиссельбургской крепости, где создаст много ценных трудов в области естествознания, за что и получит впоследствии звание почетного академика Академии наук СССР.
Тогда же они были юными. И даже расставания, которые щекотали их сердца легкой печалью, не надолго задерживали эту сдобренную улыбкой печаль.
Олико — Нико
Март, 1875 г. Женева.
Нико, объясни мне, какой был спор у Прудон а с Бастиа, в котором Прудона разбили в пух и прах. И правда ли это? Нам это рассказывал здешний профессор по политической экономии, истории и, между прочим, социальных школ.
Но он рассказывает иногда такие вещи, что можно было бы описать в газетах, имей только талант на это!..
Например, что в XX веке пролетариата уже не существует, что это врут, когда говорят, что есть какая-то разница в богатстве, ибо он, как политэконом, наблюдал на рынке, как все одинаково покупают овощи и мясо.
Нико —Олико
Апрель, 1875 г. Париж.
Прудон доказывает, что кредит должен быть даровой, т. е... что банк должен одалживать работающим деньги и орудия труда даром. Как видишь, мысль чрезвычайно гуманная. Но откуда банк возьмет деньги даром? Прудон доказывал, что чем больше работающих сделаются владельцами капитала, тем меньше процентов будет приносить капитал, оставшийся в руках неработающих капиталистов. И таким образом можно достигнуть того, чтоб капитал не приносил никаких процентов тем, кто его не употребляет сам. Верно ли это предположение? Возможно ли это? Прудон отвечает, что да, совершенно верно, но реальных доказательств не приводит никаких.
Возьмем два завода: один принадлежит ассоциации работников, другой — хозяину-капиталисту. Ассоциация рабочих, — говорит Прудон, — может удовольствоваться ничтожной выгодой, равняющейся тому, что рабочий получал прежде в виде задельной платы. И поэтому она может сбавить цены на свои продукты так, чтоб их конкурент-капиталист не смог выручить никакой выгоды. Это совершенно справедливо, но лишь в начале дела. Это начальное превосходство и ввело в заблуждение Прудона. В самом деле, если ассоциация состоит из людей предусмотрительных и умных, она не может упустить из виду, что не всегда дела завода могут идти хорошо. Ежегодно, в течение нескольких месяцев, в каждой промышленности бывает застой, часто возникают кризисы, иностранные фабриканты заваливают рынок дешевыми произведениями, с которыми не могут конкурировать продукты завода, машины ломаются, завод требует переделок и т. д. Для того, чтобы завод не лопнул в такие критические минуты, необходимо, чтоб рабочая ассоциация, кроме своего завода, имела еще весьма сильный резервный капитал, т. е. крупную сумму денег, отложенную на черный день. Откуда же взять сумму? Конечно, оттуда, откуда ее берет и капиталист, надбавляя известный процент на ценность своих продуктов. Таким образом, то, что на частных заводах называется хозяйским барышом и против чего ратовал Прудон, должно на заводах ассоциаций сохраняться в виде резерва. Следовательно, рабочие ассоциации не заставят частных производителей отказаться от прибылей.
Я привел лишь один пример, чтоб показать, в чем состоял спор. В сущности Прудон высказывал следующие вещи: «Желательно, чтоб дело шло так и так», а Бастиа доказывал, что так дело никак не может идти. Представь себе, что я стану доказывать наикрасноречивейшим образом, что положение женщин невыносимое, что им, бедным, приходится страдать девять месяцев и затем рожать детей в сильных мучениях, что этому следует положить конец, и т. д. Я нарисую картину такого образа жизни, где дети будут вылупляться из яиц, благодаря действию температуры. Представь себе, что придет какая-то «авчальская старушка», которая будет полемизировать со мной против этого и доказывать, что я не прав. Согласись, что в этой полемике и я и старушка наговорим бездну вздора, хоть мы оба, в сущности, будем правы и неправы. Бастиа хотел доказать, что процент на капитал естественен, законен и неизбежен. Он думал вывести естественно-научные законы движения и образования капиталов. Однако он не совсем успел в этом. Но он был из числа тех людей, которые чувствовали, по какой дороге нужно идти, чтобы разрешить общественные вопросы. Его коренная ошибка заключается вот в чем: он говорил, что закон образования и движения капитала такой-то, следовательно, этому надо подчиниться и ничего более не думать об этом. Это, мол, все равно как закон образования и движения рек. Но изучение этих последних законов показывает, что, зная их сущность, можно устраивать плотины, набережные и т. д. для того, чтоб не только избегнуть неприятных сил, но и направить эти будто бы неблагоприятные силы на пользу человека. Никаких воздействий человека в социальной экономии Бастиа не допускал именно потому, что он был в политической экономии «авчальской старушкой», умевшей помочь при легких родах со святой водой в руках, но не имевшей понятия о многотрудной науке акушерства и гигиены. Фу, черт возьми, устал до смерти. Поклон всем.
Нико — Олико
Май, 1875 г. Париж.
Вчера, в довершение всех моих неудач, вспыхнул здесь, на бирже, ужаснейший кризис. Борьба между крупной финансовой аристократией Ротшильдов, Субейронов и Кº и затейливой, мелкой, «соединившейся» буржуазией (Филипер, Прейл, Жирарден и Кº) кончилась поражением последней. Все они разорены, и вместе с ними половина французских капиталистов выброшена на солому. Разумеется, пройдут целые месяцы, пока к французам можно будет подойти с каким-нибудь предприятием...
День и ночь у меня одна забота: как выползти из Парижа. Увы, до сих пор я ничего не могу придумать. К кому ни обращаюсь за деньгами — везде отказ и невозможность. Ш. выслал гроши, и их не хватает даже на дешевое пропитание. Можно сочинить целую эпопею о моих скитаниях в погоне за возможностью не умереть с голоду. Само собой разумеется, что это все чепуха, что я вылезу так или иначе из этой гадости. Но больно думать, что лучшие годы и силы тратятся на такие пустяки.
Мне предстоял гениальный случай посетить вас до отъезда. Инженер Перноле от имени общества французских горных инженеров пригласил меня на конгресс в Сент-Этьен, возле Лиона. Этот конгресс собирается 24 мая, и его участникам разрешено будет осмотреть все каменноугольные копи, заводы, фабрики, железные дороги. Такие разрешения чрезвычайно редки... Но я не предвижу ни малейшей возможности иметь деньги к 20 мая.
Все наши соотечественники (тьфу!) живы, здоровы и счастливы. Как мало, черт возьми, нужно для их счастья: комната, обед, кухня да франк в день для кофейной. Остальное — хоть трава не расти. Год тому назад как рвался я из Тифлиса за границу! Везде хорошо, где нас нет... Не значит ли это, что там гнусно, где мы? И что эту гнусность мы сами с собой привозим?
Хоть и красивым парадоксом звучат заключительные фразы в этом письме, а все же есть в них маленькая доля горькой правды. Потому, что все с человеком, все в человеке, и от самого себя, от своих настроений никуда не уйдешь.
Но как искренни у Нико переходы от самоуверенности к самоуничижению! Он не находит себе места, он понял, что окончательно проиграл игру в предпринимателя. Ухлопан целый год жизни, а он так много собирается за этот год сделать! Разве не досадно?
И еще одно. Как ни утешает он себя тем, что, увлекая за собой из родительских гнезд, никому не обещал райской жизни, а все же чертовски скверно, что девочки так перебиваются, и он ничем не может им помочь.
Убедившись, что без постоянного источника средств больше жить нельзя, Олико решается на нелегкий для нее шаг — она поступает гувернанткой в богатый дом русского дипломата Аничкова. Там она имеет удовольствие наблюдать совершенно чуждое ей великосветское общество, 75-летнею старца-супруга и 27-летнюю его супругу. Там ей вменено, согласуясь с требованиями и вкусом родителей, воспитывать двух маленьких девочек. Что делать? Другого выхода нет. Все же это дает ей возможность не бросать университет.
Еще не совсем освоившись с новым своим положением, ошеломленная и притихшая, после почти месячного перерыва Олико пишет Нико...
Олико — Нико
Июнь, 1875 г. Женева.
Не знаю даже, с чего начать и о чем писать тебе, дорогой мой, хороший Нико. Так давно не писала я тебе! А знаешь, чем дольше не пишешь, тем меньше находишь, о чем писать, хотя с первого раза и кажется, что должно быть иначе.
У нас тут не все по-прежнему, вернее, все не по прежнему. И за это время так изменилась обстановка, что я еще не могу хорошенько опомниться, оглянуться на себя. Столько за это время я успела перечувствовать и передумать, что, кажется, уже целый год прожила. Хотя до сих пор мне здесь скверно, гадко, но, в сущности, это мне здорово. Все окружающее меня возмущает, но это возмущение не дает мне закиснуть, заснуть, а, напротив, теперь я больше чем когда-либо настороже.
В первые дни, когда я пришла сюда, я не могу тебе сказать, что было со мной: на меня напало какое-то оцепенение, я не спала, ходила, ничего не понимала, не чувствовала. Мне не было вовсе гадко, а просто что-то ужасно давило, давило мне на мозги, на сердце... Вокруг меня философствовали и о социалистах, и о нигилистах, и о Рошфоре, и об их подлости, о подлости рода человеческого. Сами же в это время лгали и подличали: жена перед мужем, муж перед женой, мать перед дочерью... А мне все это было все равно, как будто меня здесь не было.
Так было до тех пор, пока я в первый раз не пошла домой. Тут как будто впустили в меня электрический ток — я проснулась и с тех пор стала всматриваться в других и в себя. И вот одно нужное качество, которое я выработала здесь, — именно всматриваться в себя, во все свои поступки и мысли. Понимаешь, первая мысль, которая мне бросилась в голову: «Чу, будь настороже, а то сам опошлишься так же, как и все окружающие!». Понимаешь, что для меня это легче, чем для кого бы то ни было, для меня с моим умением применяться к обстоятельствам и уживаться с людьми. И вот эта мысль, что я здесь опошлюсь, не дает мне покоя, мучает меня, давит, не дает уснуть ни днем, ни ночью...
Вообрази, Нико, я теперь тебе пишу все, что у меня на душе, т. е. пишу не все, а стараюсь передать все, как я это делала прежде, но теперь совсем с другим чувством: тогда я думала, что все это тебя крайне интересует, а теперь я думаю, что все это тебе крайне наскучит, надоест. Ты скажешь: «Фу, какое переливание из пустого в порожнее!» Мне все кажется, что ты теперь не захочешь меня понять, выслушать, заглянуть далеко мне в душу, что тебе не до этого. Отчего мне это так кажется, я, право, не сознаю этого, а только чувствую. Ты же знаешь. что женщины прежде всего чувствуют, а потом уж начинают сознавать то, что почувствовали...
Не знаю, права ли я, но я вынесла это из твоих последних писем. Знаешь ли, я над твоими письмами и вообще, над вашими (твоими и Ботиными) письмами думаю больше, чем вы воображаете, Понимаешь, как меня интересует, что у вас там, как вы, как все идет у вас...
Я вас не вижу, и единственно, что подает сведения о вас, — это письма. И вот за последнее время мне показалось, что ты потерял свою прежнюю впечатлительность, стал ко всему относиться совсем холодно, индифферентно, как бы говоря: «Э, знакомы мне все эти чувства, все эти мысли, все это... Ну их к богу!..». Видишь ли, Нико, как откровенно я пишу тебе. И замечательно, что прежде я бывала с тобой гораздо менее откровенна, чем теперь, хотя думаю, что прежде моя откровенность интересовала бы тебя гораздо больше.
Но ты хорошенько пойми меня: я не хочу сказать, что ты стал индифферентнее ко мне. Нет, не ко мне, а вообще ко всему и ко всем, даже к себе. Мне кажется, что ты теперь над собой меньше думаешь, чем прежде, а от этого и над другими. Самое дорогое в тебе качество — уметь вдумываться и схватывать затаенные движения души, как своей, так и чужой. Было бы ужасно, если б это качество в тебе исчезло. Замечательно, что я не понимаю себя, отчего мне неловко писать тебе. Я становлюсь с тобой такой же Ольгой, какой была давно-давно, прежде...
А правда ведь, что в этом письме Олико появилось что-то новое, какие-то не свойственные ей мотивы? И «не понимаю, почему мне неловко писать тебе», и «я над вашими письмами думаю больше, чем вы воображаете», и, наконец, «женщины (!) прежде всего чувствуют, а потом начинают сознавать, что почувствовали»... Что происходит в ее душе? Смятенье?
С Нико они не виделись с весны прошлого года. Письма Нико изменились, как бы посерели. Олико в новом для нее качестве гувернантки в богатом доме испытывала большую психологическую ломку, стала бурно взрослеть. И вдруг почувствовала, что к ней что-то подкрадывается, какие-то неясные волнения. Смолчать бы пока, разобраться самой. Нет, она привыкла все выкладывать Нико.
Но вот, только она все это высказала и отослала, как пришло письмо от Боти. Небрежное такое и деланное. Олико хочется узнать, как они, как у них все идет? Изволь, пожалуйста: они решили с Нико пожениться. Шестого июля вступают в законный брак и тотчас уезжают в Тбилиси. Кроме этого лаконичного сообщения, для ближайшей подруги не нашлось больше слов. Странно, непонятно и больно.
Прошел год, долгий, томительный, без писем Нико. Службу в неприятной семье пришлось оставить и перебиваться случайными уроками, которые позволяли жить впроголодь, на грани существования. Все подруги разъехались. Олико продолжала учиться, посещать лекции и сдавать экзамены, но все это в каком-то тумане.
Все чаще думала Олико о том, что, кажется, потеряла она в жизни что-то очень важное. Она чувствовала: из нее постепенно что-то уходит, как из пористого кувшина, который, пропуская капли воды на поверхность, сохраняет в холоде свое нутро. Все уходит — тепло, энергия, озаренность! Человек, который, хоть и на расстоянии, но все время был около нее, человек, с которым она могла советоваться, спорить, выслушивать от него нотации и делать ему выговоры, этот, оказывается, единственно близкий для нее человек, лишил ее себя. Он забыл её, как книгу в вагоне, как носовой платок в плаще. Что же это такое? Неужели он был так важен, так необходим ей? Неужели из-за его «тихого бегства» (без единого словечка!) стало вдруг пусто и серо вокруг?
А не может ли быть так, что она просто слишком много копалась в себе, слишком много рассуждала о своем назначении, не в состоянии уловить главного в обстановке постоянных споров и разглагольствований? И, ослабевшая физически, одичавшая в постылой борьбе за кусок хлеба, она обратила свой всегда насмешливый глаз внутрь себя. И вдруг почувствовала свою полную несостоятельность перед тем идеалом, который рисовался ей еще недавно.
Всего три года назад пароход понес ее по волнам, окрыленную и полную радостных надежд. А сейчас — обыденность. А сейчас — одиночество. И письма из Тбилиси от матери, в которых ее заклинают вернуться как можно быстрее домой. Даже деньги на дорогу обещают прислать!.. Может, и в самом деле прислушаться к голосу, неукротимо зовущему ее на родину?
Какое бы ни было, а пришло решение. И было оно глотком свежего воздуха, дождем после душной утомительной ночи. Олико начала бурно собираться. Надо было покончить с долгами, хотя бы самыми неотложными, а для этого кое-что продать и хоть немного заработать уроками.
В этих хлопотах и волнениях неожиданно пришло письмо от Нико. Как всегда, ему было некогда; как всегда, вокруг него кипела редакционная жизнь, делался очередной номер «Тифлисского вестника», в котором он тогда уже работал. Писал он своему другу торопливо и жестко, не очень-то выбирая слова. Он только что узнал о решении Олико вернуться в Тифлис. Какое легкомыслие! Все возмущалось в нем...
Нико — Олико
Май, 1876 г. Тифлис.
...Из всех поехавших в Европу барынь ни одна не выдержала той трудной роли, которую они самовольно взяли на себя. Неудача одной, другой, третьей преграждали пути к образованию тем, которые хотели бы учиться. «Ни из кого не вышло проку!» — вот какими словами родители обрезывают крылья желающим учиться. Но у всех здесь была надежда: «Что же, что вернулись ни с чем некоторые. Вот Гурамова — та лицом в грязь не ударит...» И эта надежда теперь выскользнет из рук.
Знаю, ты скажешь: хорошо тебе высказывать все это, когда мне с голоду умирать приходится, не то, что учиться! Но я понимаю эту речь в устах всех и каждого, но только не в твоих устах. В удобной обстановке добиваться своих целей могут и ничтожные люди, без способностей и энергии. Выхода из этого положения для тебя, по-моему, нет и не может быть иначе, как признаться в своем бессилии. Вправе ли мы делать такое признание? Я думаю, что нет, потому что знаю тебя очень хорошо. И еще знаю нашу жалкую, бессильную, трусливую и подловатую молодежь. Не следует ее еще больше портить примерами падения... Если она теперь со злорадством распространяет о тебе сплетни, что же будет, когда она увидит, что ты сдаешься?..
Итак, Нико и мысли не допускал, что Олико возвращается домой без диплома об окончании Женевского университета. При этом он не обещал ей материальной поддержки, как это бывало прежде, потому что и сам был завален по уши денежными и моральными обязательствами. Он требовал от нее проявления особой стойкости. Наконец, пугал ее тем, что по возвращении в Россию ее, за близость к революционным кругам, «отправят в Питер под замок»...
Да, то был Нико, бескомпромиссно требовательный к близким, довольно жестокий, но и справедливый в своем огорчении.
— Он сердится, но это от холодного ума, — подумала Олико.
— Ему очень плохо, он одинок, — подумала она.
И решила:
— Тем более не нужно медлить!
Олико — Нико
Июнь, 1876 г. Женева.
Ты не поверишь, дорогой Нико, как приятно мне было получить твое письмо! Будто встретилась с другом, с которым давно-давно рассталась...
Но с содержанием твоего письма я вовсе не согласна. То есть, я совершенно согласна с тобой в том, что мало толку из того, если я приеду на Кавказ теперь такою, какова я есть. Но совсем-совсем не с той точки зрения, которую ты выставил в письме. Мне кажется, что ты не как следует выразил свою мысль. Разве за то надо бороться, чтобы показать известным людям (вдобавок таким, как ты обрисовал!), что, мол, я не ниже вас, лицом в грязь перед вами не ударю, не позволю вам считать себя выше меня. Разве это не их собственное ремесло? И докажи им это, что же толку от того, кому от этого будет тепло или холодно? Единственно моей персоне. Мое самолюбие будет удовлетворено. А затем? А затем — это все.
Я вовсе не о том жалею, что не достигла этого. Я вовсе не об этом мечтала. Мне гадко и скверно, что я не сумела выработать из себя личности, идеал которой был составлен у меня в голове. И будь у меня теперь возможность остаться на время здесь, но вполне предоставленной самой себе, я б, может быть, и достигла этого. Но не забудь, что для общества это было бы решительно ничто.
Да, да, для них я бы приехала такой же, как и теперь. Я бы не «оправдала их надежд». Им нужно, чтобы я явилась благонамеренной женщиной, дипломированной, с наивным выражением в очах. Ни одному из этих условий я бы не удовлетворила. И, повторяю, именно потому, что мне это кажется мелочной, жалкой борьбой из-за своей личности и для своей личности...
...А что касается того, что мой приезд может быть кому-нибудь во вред (я говорю насчет женщин, желающих получить высшее образование), на это я даже не хочу возражать. Ведь, в сущности, это так только говорится, и ты, я думаю, сам не придаешь этому никакой веры.
Но я хочу видеть тебя непременно, во что бы то ни стало таким, каким я тебя знаю, совсем-совсем таким. Хотелось бы многое сказать по этому поводу и вообще насчет твоего письма. Да ну, тут не место. Да и зачем это делать? Эх, довольно разглагольствований! Лучше до свидания, до скорого свидания.
Довольно разглагольствований! Так решила Олико.
Досадно, что ей пришлось сорваться незадолго до финиша? Да, конечно, очень досадно. Сто лет назад в Грузии могла появиться женщина-ученый. Все как будто шло к этому, все обещало сиять и сверкать. Не хватало сделать несколько шагов. Но... не дано было. В тех условиях, в той ситуации — не дано. И пусть хорошо поймут это те, кто сегодня свободно учится у себя дома. Пусть знают, как нелегко было им, самым первым, которых косили болезни, которые боролись с унизительной нуждой, преодолевали моральные барьеры. Они прокладывали дорогу идущим вослед.
И были эти люди людьми своей эпохи, своего класса и своего народа. Но вместе с тем гораздо шире всего этого. Эпоху они опережали. Интересы своего отживающего класса были им чужды. Они стали интеллигентами. Они стали интернационалистами, ибо испили из всех источников, родников и ручейков, что стремительно неслись по крутому склону девятнадцатого века.
* * *
Закрылась последняя страница в пачке старых-престарых писем. Не знаю, как вам, читатель, а мне жалко расставаться с этими людьми. Мне было с ними интересно. Может быть, не всегда я с ними соглашалась. Да так ли это просто с высоты следующего века? Но мне нравилось, о чем и как они беседуют друг с другом. Потому что вокруг них и в них самих кипели гражданственные страсти, а от этого никогда не тянет тленом веков.
Когда переписываются он и она — это почти всегда любовь. И тут была любовь. Нет, скорее дружба-любовь, или влюбленная дружба, где на первом плане влечение сердца и ума. Именно это влечение в итоге победило у таких людей, как Нико и Олико, Они, конечно, объединились. Но это позже, спустя несколько лет. Еще одна нетронутая пачка писем может поведать о том, как это было.
И Олико не оказалась в стороне от дел, находясь рядом с кипучим Нико. Она приносила посильную пользу своему народу, держала факел в руке. А то, что не удалось сделать ей самой, ушло в ее детей и детей ее детей, весьма достойных своих родителей. Так что ничего в жизни не пропадает. Ничего и никогда.
© Ия Месхи
© Slava Meskhi
 Но прежде всего представим себе нашу героиню. Вглядываясь в ее девичью фотографию, скажешь, что перед нами честное, открытое лицо бескомпромиссного человека. В нем отсутствуют кокетливость и жеманство, благополучие и сытость. Я улавливаю в нем выражение суровости, гордости и беспокойства. Человек с таким лицом может быть резок, категоричен, опрометчив. Его только нельзя назвать равнодушным, занятым самим собой. Словом, посмотришь на такое лицо, и тебе интересно, что за ним: какая работа ума, какие взгляды на свое место в жизни. Нет, это не простенькое, не безмятежное девичье личико!..
Но прежде всего представим себе нашу героиню. Вглядываясь в ее девичью фотографию, скажешь, что перед нами честное, открытое лицо бескомпромиссного человека. В нем отсутствуют кокетливость и жеманство, благополучие и сытость. Я улавливаю в нем выражение суровости, гордости и беспокойства. Человек с таким лицом может быть резок, категоричен, опрометчив. Его только нельзя назвать равнодушным, занятым самим собой. Словом, посмотришь на такое лицо, и тебе интересно, что за ним: какая работа ума, какие взгляды на свое место в жизни. Нет, это не простенькое, не безмятежное девичье личико!.. Нравятся вам слова из библии: «От смоковницы возьмите подобие: когда ветви на ней становятся мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето»? Илья Чавчавадзе взял эти слова эпиграфом к основанному им журналу «Сакартвелос моамбе» («Вестник Грузии»). И он писал в своем журнале, что «жизнь меняется, идет вперед и несет обновление. Нравы, обычаи, мысли, чувства и выражающий их язык — все изменяется под ее могучим воздействием. Жизнь — мать всякого дела».
Нравятся вам слова из библии: «От смоковницы возьмите подобие: когда ветви на ней становятся мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето»? Илья Чавчавадзе взял эти слова эпиграфом к основанному им журналу «Сакартвелос моамбе» («Вестник Грузии»). И он писал в своем журнале, что «жизнь меняется, идет вперед и несет обновление. Нравы, обычаи, мысли, чувства и выражающий их язык — все изменяется под ее могучим воздействием. Жизнь — мать всякого дела». Нико!.. Навязший у всех в зубах, притча во языцех, как говорят. Умный, обаятельный, независимо держащийся, мятущийся по белу свету человек. Всегда на волне, всегда впереди, будоражит и зовет своим острым журналистским пером. У него уйма друзей и столько же недругов. Затевает чертову прорву дел. Вызывает восхищение и вместе с тем чем-то чуть-чуть раздражает и злит. Даже самых близких друзей. Быть может, оттого что характер беспокойный. Да к тому же все-таки не совсем свой, не дворянских, не благородных кровей?..
Нико!.. Навязший у всех в зубах, притча во языцех, как говорят. Умный, обаятельный, независимо держащийся, мятущийся по белу свету человек. Всегда на волне, всегда впереди, будоражит и зовет своим острым журналистским пером. У него уйма друзей и столько же недругов. Затевает чертову прорву дел. Вызывает восхищение и вместе с тем чем-то чуть-чуть раздражает и злит. Даже самых близких друзей. Быть может, оттого что характер беспокойный. Да к тому же все-таки не совсем свой, не дворянских, не благородных кровей?.. Во всем этом было много европейского блеска и относительной свободы писать и оттачивать свое перо. Но к концу шестидесятых годов он вернулся на родину, потому что она тянула его всегда. Здесь он стал сотрудничать в газете «Дроеба», хотя и не во всем был согласен с ее редактором Сергеем Месхи. Вместе со своим единомышленником Георгием Церетели издавал журнал «Кребули» («Сборник») [Здесь игра слов: «кребули» по-грузински в старину означало боевую дружину всадников. И Н. Николадзе именно потому и выбрал такое название для своего боевика.], собрал вокруг него группу передовой молодежи. «Читальня Иванова» — тоже его детище. Он снабжал библиотеку литературой, изыскивал средства, для финансирования. Он же своими руками переплетал книги запрещенных авторов, придавая обложкам и титульным листам вид изданий Диккенса, Шпильгагена, Шекспира...
Во всем этом было много европейского блеска и относительной свободы писать и оттачивать свое перо. Но к концу шестидесятых годов он вернулся на родину, потому что она тянула его всегда. Здесь он стал сотрудничать в газете «Дроеба», хотя и не во всем был согласен с ее редактором Сергеем Месхи. Вместе со своим единомышленником Георгием Церетели издавал журнал «Кребули» («Сборник») [Здесь игра слов: «кребули» по-грузински в старину означало боевую дружину всадников. И Н. Николадзе именно потому и выбрал такое название для своего боевика.], собрал вокруг него группу передовой молодежи. «Читальня Иванова» — тоже его детище. Он снабжал библиотеку литературой, изыскивал средства, для финансирования. Он же своими руками переплетал книги запрещенных авторов, придавая обложкам и титульным листам вид изданий Диккенса, Шпильгагена, Шекспира...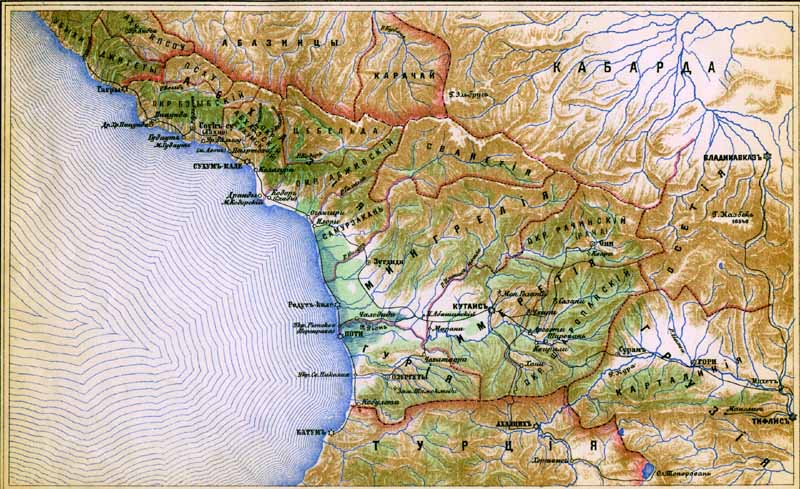 А портом Батуми все еще владеет Турция. Следовательно, Батуми это заграница, при посадке будет тщательная проверка виз. Но Нико настроен оптимистично: не отличишь Олико от Просико! Даже на тот случай, если произойдет заминка, недалеко от пристани роют копытами землю два скакуна, и с ними лихой наездник, верный друг Нико. Он должен промчать Олико тайной тропой через границу и успеть на пароход в Батуми. Все рассчитано по часам и минутам.
А портом Батуми все еще владеет Турция. Следовательно, Батуми это заграница, при посадке будет тщательная проверка виз. Но Нико настроен оптимистично: не отличишь Олико от Просико! Даже на тот случай, если произойдет заминка, недалеко от пристани роют копытами землю два скакуна, и с ними лихой наездник, верный друг Нико. Он должен промчать Олико тайной тропой через границу и успеть на пароход в Батуми. Все рассчитано по часам и минутам. Это было в Петербурге, в 1861 году. Ему шел тогда 18-й год. Он уже отсидел в Петропавловской крепости и в Кронштадте за участие в больших студенческих волнениях. Его фамилия в общем списке участников-студентов появилась в «Колоколе» под статьей «Исполин просыпается». Сердце было полно гордыни. Хотелось совершать подвиги. А так как полицией предписывалось вернуться домой, к родителям, на поруки, он скрывался тайно у поэта Акакия Церетели, на его петербургской квартире. Выходил на улицу редко, в черкеске, притворяясь слугой грузинского князя.
Это было в Петербурге, в 1861 году. Ему шел тогда 18-й год. Он уже отсидел в Петропавловской крепости и в Кронштадте за участие в больших студенческих волнениях. Его фамилия в общем списке участников-студентов появилась в «Колоколе» под статьей «Исполин просыпается». Сердце было полно гордыни. Хотелось совершать подвиги. А так как полицией предписывалось вернуться домой, к родителям, на поруки, он скрывался тайно у поэта Акакия Церетели, на его петербургской квартире. Выходил на улицу редко, в черкеске, притворяясь слугой грузинского князя.